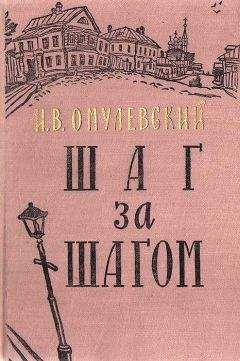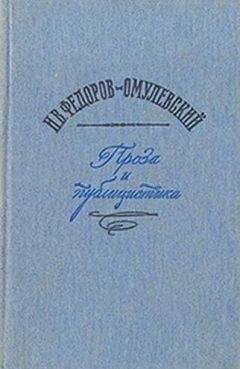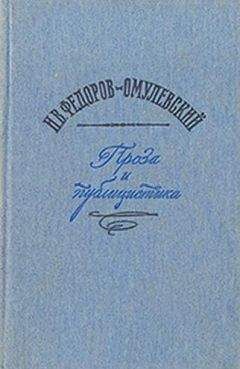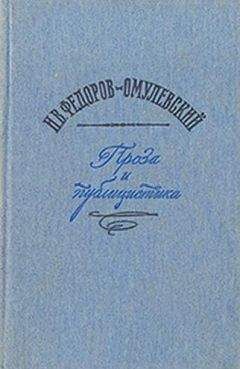— Не езди ты, милая, сюда в другой раз… — продолжал Александр Васильич, стараясь придать как можно больше правдивости и искренности своим словам. — И знаешь почему, мама? Ты ведь не в силах относиться спокойно к моему настоящему положению, — иначе и быть не может; а между тем уже один твой страдальческий вид способен каждый раз расстроить меня, отнять необходимую ясность и силу у моего ума, тогда как они-то именно и нужны мне теперь всего более, чтоб оправдаться…
Говоря это, Светлов заботился, разумеется, не о себе; но для Ирины Васильевны было совершенно достаточно подобного основания, чтоб не противоречить своему любимцу.
— Только бы поскорее выпустили-то тебя, Санька, а уж я, нечего делать, посижу, грешная, дома… — с величайшей покорностью согласилась старушка и снова принялась плакать. — Что понадобится — пиши с Лизаветой Михайловной, — с ней и пошлем тебе; а то и отец приедет: может, уломаю я его как-нибудь… — говорила она сквозь слезы, уже уходя и поминутно оборачиваясь, чтобы еще раз обнять сына.
Но Василья Андреича трудно и почти невозможно было «уломать», когда какая-нибудь упрямая мысль гвоздем сидела у него в голове. Тем не менее этот блистательный подвиг был совершен, и совершил его не кто иной, как Владимирко. «Поедем» да «поедем к Саше» — дней пять сряду приставал он неотступно к отцу. Дело в том, что с той самой минуты, как в стенах большого светловского дома, с некоторой таинственностью и даже ужасом, произнесено было впервые слово «острог», последний получил в глазах мальчугана интерес и значение как бы какого-то громадного небывалого и никогда еще не виданного им фейерверка, который, во что бы то ни стало, надо было увидеть, — по крайней мере в такой именно силе чувствовалось это желание самому Владимирке. На его ежеминутные приставанья старик отвечал сперва только одним угрюмым «отвяжись» да усиленным сопеньем своей трубочки; потом, как бы не выдержав натиска дальнейших приставаний, Василий Андреич стал отговариваться уже мягче — и, наконец, на шестой день утром внезапно объявил:
— Не ходи ужо либо сегодня, Вольдюшка, в гимназию-то: к брату поедем.
Это утро было настоящим праздником для Ирины Васильевны; она даже свечу затеплила перед образом в своей спальне.
— Слава тебе, господи! едет… — сдержанным шепотом говорила старушка дочери, усиленно придумывая, «что бы такое послать еще Саньке». — Да как же, Оля! — твердила она, — ведь какой грех-то был бы потом отцу на том свете… ты подумай-ка, матушка! Право, все сердце у меня изболело эти дни…
Свидание старика Светлова с арестантом-сыном произошло довольно холодно. Василий Андреич, особенно вначале, видимо дичился его или, вернее сказать, конфузился: родительская совесть заговорила понемногу в старом упрямце и теперь громко начинала протестовать против его предыдущего упорного отчуждения от родного детища. Видя это, Александр Васильич чувствовал, с своей стороны, что не может быть искренним, как бы хотел, и потому тяготился отчасти и сам неожиданным приездом отца. Когда после первых, заметно натянутых приветствий и расспросов речь зашла каким-то образом об Ирине Васильевне, молодой Светлов заметил:
— Маме, право, стоит позавидовать: у нее — геройское сердце.
Василий Андреич тотчас же обиделся: ему послышался в этом замечании косвенный намек на отсутствие героизма в собственной особе.
— То-то ты, видно, и стараешься мать-то в постель уложить! — проговорил он с горечью.
Александр Васильич, в свою очередь, вспыхнул; он посмотрел на отца в упор.
— Если ты, папа, приехал сюда только затем, чтоб оскорблять меня в этом подневольном углу, — холодно и гордо сказал Светлов, — то, право, судя по недавнему опыту, ты мог бы сделать то же самое и не выходя из дому.
— Ну, ну… уж, разумеется, я один кругом виноват! — с прежней горечью отозвался Василий Андреич, очевидно, еще больше задетый теперь за живое.
Александр Васильич промолчал; он переносил в эту минуту своего рода пытку: ему и жаль было старика, и сознавалась им в то же время роковая невозможность вести себя иначе, чем до сих пор.
— Мне, парень, что! — продолжал Василий Андреич, не дождавшись возражения от сына, и голос его зазвучал уже как-то мягче. — Делай, как хочешь, — по мне все равно; я уж рукой махнул на все… А ты вот о себе-то подумай: ведь пропадешь ты эдак ни за копейку… бесшабашная голова!..
— Так научи же меня, папа, чтобы я мог дороже продать свою жизнь, — с глубоко затаенной скорбью молвил Светлов, — кругом, у всех, — везде, куда ни оглянешься, она пропадает даром; а я бы не хотел этого…
— На службу ты не поступа-аешь… — уклончиво заметил старик, — кто тебя знает, что у тебя в голове!
— Эх, папа! многое шевелится в ней, да беседовать-то об этом она привыкла только с подушкой… — как-то задумчиво сказал ему сын и тихо забарабанил пальцами по столу.
В таком роде, длилась с полчаса их несговорчивая беседа. Василий Андреич прежде всего вынес из нее какое-то смутное предчувствие будущих бед, на каждом шагу грозивших впереди его сыну; но, кроме того, было в ней и что-то отрадное для старика, — что именно такое — он не мог бы сказать и сам, а было что-то… Во все время этой беседы, или, вернее сказать, в продолжение целого визита, Владимирко, усевшись на постель и тесно прижавшись к брату, упорно молчал, зорко поглядывая оттуда вокруг, точно мышка из своей норки. Александр Васильич, сильно ему обрадовавшийся, несколько раз пробовал заговаривать с ним, даже принимался было тормошить его, но мальчуган только уклончиво жался в угол кровати да отделывался двумя-тремя односложными словами; а между тем, судя по глазам, «химика» сильно тянуло на разговор. Впрочем, секрет такого молчаливого поведения Владимирки объяснялся весьма просто: его стесняло присутствие отца, с старшим братом мальчик привык беседовать нараспашку только с глазу на глаз, а так, для одного виду, говорить, по его ребяческому соображению, не стоило.
Но зато в душе Владимирко торжествовал: ему удалось побывать в остроге.
— Не страшный совсем острог-то этот! — пренебрежительно сообщил он в тот же вечер на кухне своему «наилюбезному камердинеру», — только погребом пахнет. И солдат там ключами побрякивает… как наша Акулина, когда сливки из погреба достает; мама еще все говорит ей: «Сильно-то не закрывай — прокиснут». А человек, Ваня, может прокиснуть, а? — смешливо заключил «химик».
Предлагая такой, по-видимому, наивный вопрос, Владимирко был совершенно прав: разве люди — не те же «сливки» жизни?..
III
«ЧТО БЫ ТАМ НИ ДУМАЛИ ЛЮДИ!»
Вот уже пятая неделя подходила к концу с того времени, как началось следствие по фабричному делу, а Светлова все еще не выпускали на волю. Однажды утром, получив дозволение погулять на острожном дворе, молодой человек нечаянно наткнулся там на Семена Ларионыча, разгребавшего в числе других арестантов выпавший накануне глубокий снег.
— Лександру Васильичу наше глубочайшее! — дружески поздоровался с ним издали староста. — Вот где бог привел встретиться!..
К высокому частоколу, ограждавшему двор острога, прислонена была чья-то незанятая лопата.
— Давай-ка я помогу вам, братцы, — сказал Светлов арестантам, бойко принимаясь действовать этой лопатой.
— Ку-у-ды тебе, барин! — иронически заметил ему один из них — востроглазый, насмешливого вида парень, — не по твоим ручкам такая работа… Уж больно горячо принялся: эдак и десяти лопат не снесешь.
Александр Васильич был в обыкновенном дубленом полушубке, купленном и присланном ему незадолго перед тем, по собственному его желанию, Ириной Васильевной; но арестанты, знавшие своих наперечет, сразу догадались, что новый их товарищ явился сюда из «благородного отделения».
— Почем знать вперед, — весело ответил молодой человек на замечание востроглазого парня, — может быть, ты еще скорее меня устанешь.
И он неутомимо продолжал работать, стараясь в то же время, как можно ближе встать к старосте.
— Ну, что? как наши дела с тобой? — вполголоса спросил у него Семен Ларионыч, подвигаясь, в свою очередь, к Светлову.
— Да все по-старому плохи дела, разумеется, — отозвался тот. — Ты что новенького не скажешь ли?
Оказалось, что вопрос этот был предложен небесполезно: у старосты Семена новости посыпались, как горох из мешка. Он, во-первых, сообщил Александру Васильичу, что дня три тому назад Жилинского вместе с дочерью внезапно отправили на жительство в другой, более отдаленный уезд, даже не дав им ни с кем проститься; что дом их в фабрике — запечатан, а все находившееся там имущество, за исключением мебели, отправлено вслед за ними на особой подводе, с старым слугой Казимира Антоныча. Во-вторых, Семен Ларионыч рассказал молодому человеку, что Воргунин содержится на гауптвахте, причем пожаловался еще, что мол, «Матвей Миколаич ведет дело неладно — горячится уж шибко». В заключение же всего, порывшись в карманах своих широких верверетовых шаровар, староста тихонько передал Светлову страшно измятое и засаленное письмо Христины Казимировны, запечатанное серебряным гривенником, следы которого, впрочем, едва только можно было разобрать на обломанном сургуче.