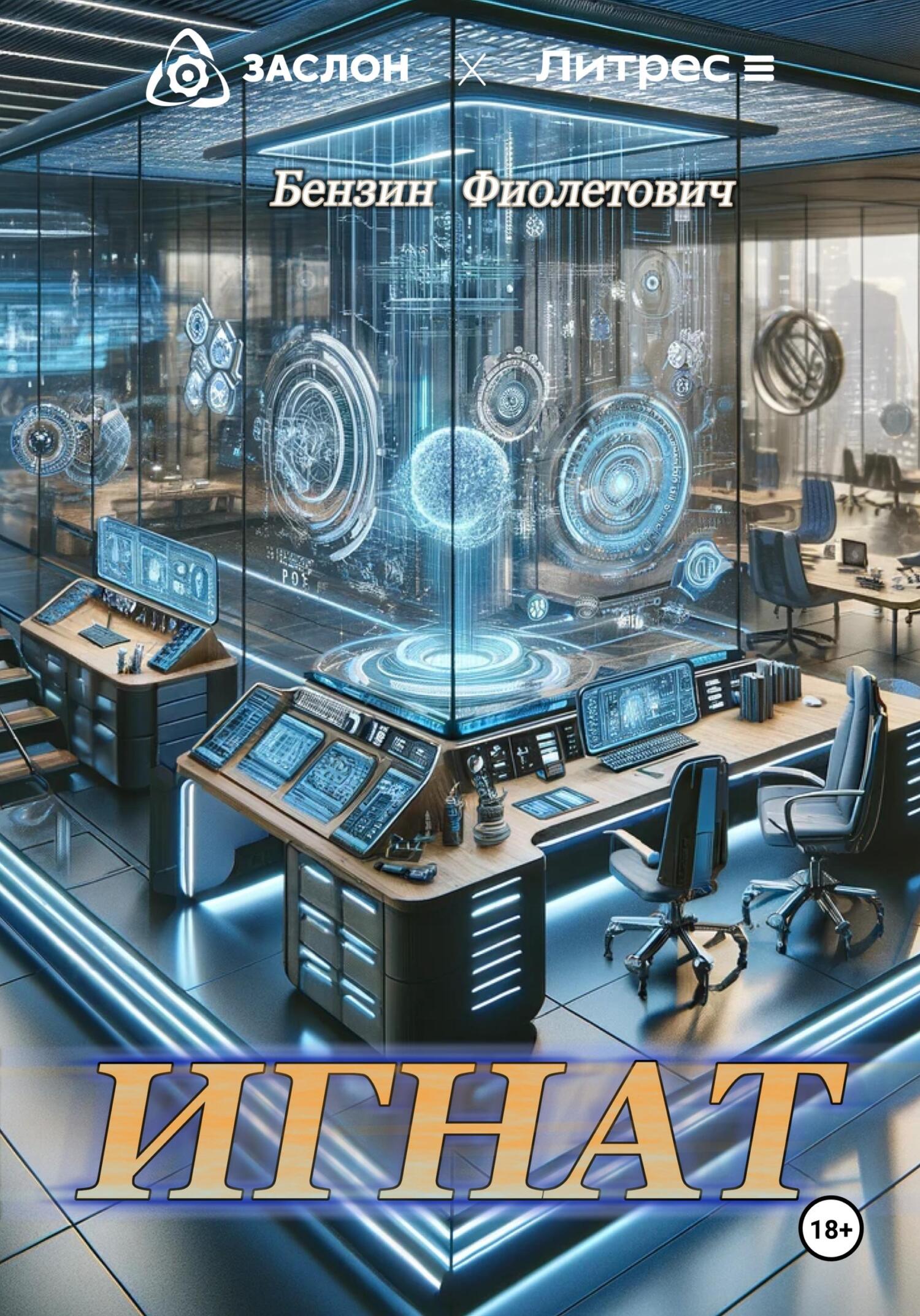освоить.
Софья: И много денег тебе это приносило?
Слава: Достаточно. Раз я мог покупать самые сокровенные тайны разных людей.
Жанна: А случалось ли такое, что твоя деятельность очень плохо сказывалась на других людях? Скажем, из-за угрызений совести они уходили в апатию к миру?
Слава: Это было уже их дело – спасать самих себя. Кто был слишком горд, чтобы обращаться ко мне, заслуживал так и оставаться во власти произвола жизни. Моих сил могло хватить на всех.
Жанна: Фу, какая мерзкая, циничная позиция! Неприятно даже осознавать, что живешь рядом с такими людьми.
Семён: Слава, я, признаюсь, не ожидал от тебя такого. Я думал, ты работаешь на куда более благородные цели. А то, о чем я сейчас услышал, перечеркивает все хорошее, что я о тебе думал.
Далее шквал обвинений в адрес Славы должен был нарастать только сильнее. Но Андрей хотел максимально отстраниться от дрязг непонятной компании. В следующую же секунду окружающая обстановка поспешила учесть это его желание. Сначала пол под ним начал медленно поворачиваться вокруг воображаемой оси, которая проходила непосредственно под его ступнями, слева направо – так, что пол впереди стал уходить вниз, а позади – уходить наверх, не теряя при этом своей плоскостности. Одновременно ориентация в пространстве самого Андрея оставалась неизменной. Вместе с полом двигались и стены с потолком, их взаимное расположение друг относительно друга тоже нисколько не менялось. Вскоре Андрей соприкоснулся спиной с полом, на котором он еще недавно стоял, впереди него теперь был потолок. Причем потолок его привычной комнаты. Споры компании, за которой он наблюдал последние несколько минут, навсегда стали безжизненны.
Вокруг снова была знакомая ему каждым своим миллиметром обстановка его многолетнего жилища. Если так, то, насколько он сам помнил, рядом на полу должны были лежать чистый листок бумаги и карандаш, и достаточно близко, чтобы можно было дотянуться до них рукой без движений туловищем. Взяв их, Андрей немедленно начал набрасывать новый рисунок. При этом лист бумаги он оставил лежащим сбоку от себя, и сам ни секунды не смотрел на свое новое рождающееся произведение, взамен продолжая глядеть в потолок – писал буквально вслепую. Андрей максимально вытянул работающую руку и даже слегка вдавливал ее в пол. Никогда еще, трудясь над тем или иным своим творением, он не сжимал инструмент письма с такой силой, как сейчас. Причиной было не повышенное телесное напряжение, а настойчивое желание создать новый рисунок настолько точным, насколько точным он в принципе мог создать его физически – написанием его Андрей хотел снять безупречную копию с образа, который четко и незыблемо собрался в его сознании. Этот образ составляли весы со сваленными в кучу разными инструментами измерения: штангенциркулями, транспортирами и так далее – на одной чаше, а также сваленными в кучу разными инструментами наблюдения: телескопами, биноклями и так далее – на другой. Весы были близки к равновесию, над каждой из чаш зависло по человеческой руке, пальцы которых были сжаты таким образом, как они бывают сжаты во время ссыпания ими мелких частиц. В конкретном случае обе руки ссыпали вниз обычные циферблатные часы, причем часы были тем меньше, чем ближе они находились к руке, их ронявшей. Андрей не мог сам себе объяснить, из-за чего ему стало так важно прорабатывать каждую деталь рисунка, вплоть до того, какое время должны показывать часы, падающие на чаши весов. Он понимал, что время, которое он обозначит на часах над чашей с инструментами наблюдения, должно будет отставать от времени на часах над чашей с инструментами измерения, однако подбирать смысл для обоснования положения стрелок на каждом из циферблатов он видел чересчур трудным занятием. Но и оставить положение стрелок произвольным тоже не мог. Андрей впервые испытывал подобную озабоченность смыслом каждого элемента своего произведения. Раньше он много раз позволял себе оставлять на отдельных частях картин очертания полностью произвольного характера, как очертания облаков или береговой линии. Сейчас Андрей готов был целые дни обдумывать малейшую деталь нового рисунка, только бы все его нюансы поддавались некоему целостному объяснению. Он не торопился. У него не было планов создавать новые произведения после этого рисунка, и он вполне допускал, что оставит его незаконченным, если смерть придет к нему быстрее. Андрей не посмотрел на рисунок, даже когда голод вынудил его наконец подняться с пола и немного перекусить. Закончив принимать пищу, он снова расположился на полу и продолжил создавать рисунок, успешно удержав в уме, какую его часть он уже успел нарисовать и какую осталось, и так же успешно с точки зрения возобновления рабочего процесса заново спозиционировав на листе кончик карандаша. С каждой новой минутой Андрей все отчетливее сживался с представлением, что своим трудом в конкретный момент времени он развивает диалог не с самим собой и не с людьми, которые, возможно, когда‑нибудь увидят его последний рисунок, а с целой Вселенной: предлагал ей свое видение конфликта, ключевого для утверждения пути человеческого развития, и терпеливо ожидал, когда ему будет подан знак, означающий одобрение или неодобрение его гипотезы. Впервые Андрей чувствовал себя так, будто он работает от лица целого человечества, а не от лица себя одного или людей, которые выдавали его работы за свои. И неважна была скудость его знаний о специфике новых времен. В том, что человечество нуждается в некоем выразителе своей общей воли и что оно в принципе нуждается таковую волю выработать, Андрей был абсолютно уверен. Вот только он не имел никакой нацеленности быть создателем после окончания рисунка с весами. Все стало странным. Для получения права выражать волю целого человечества требовался, как он сам представлял, уровень мудрости, которого можно достичь, лишь прожив несколько жизней. Но уже к исходу одной жизни у человека вряд ли останутся силы брать на себя большую ответственность, тем более ответственность всеобщего порядка. Все посещавшие его в последнее время мысли о сверхчеловеческом долголетии казались сейчас уже не имевшими под собой серьезной основы. Исторически привычного срока жизни будет достаточно, чтобы у человека исчерпалась тяга к великим свершениям. Андрей постигал это правило на собственном примере. Вдобавок в современном мире еще не было такой системы знаний, которая служила бы людям, жаждущим править прогресс, подпиткой для мудрости в принятии глобально значимых решений. Связь времен оборвалась. И, предчувствуя свой уход, Андрей полагал, что он оставляет человеческий мир не с надеждой на эпохальный прорыв, а в опасности прийти к великому и безнадежному самопротиворечию.
Пока Андрей продолжал работать над своим