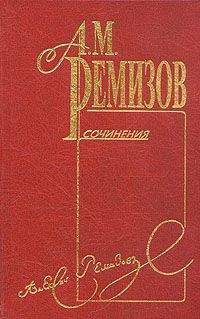— Воля!
А вы знаете, что такое воля? — подмигивал старик.
* * *
Беспокойные тучи, куда вы?
Меня унесите, хочу жить, а здесь умираю.
С каждым часом погост вырастает, там думы мои засыпают.
Длинные тучи по лунному небу плывут — —
Стойте же, тучи! укажите мне землю, где тяжесть спадает, разрешите…
Уплыли молча, чуть слышно, длинные тучи — —
Светятся тихо слезные звезды.
Тени голых ветвей, как решетка.
* * *
Накануне великого дня, который обещал открыть новый день и перевернуть землю до ее основания, рано утром разбудили старика-ювелира, посадили в черную гербовую карету, в какой возили только важных сановников, и под конвоем, как драгоценность, повезли во дворец.
Через опущенные занавески окон старик чувствовал сотни вонзающихся острых глаз. И от этих глаз накаливались стекла, и дребезжало что-то в ногах, готовое вдребезги разнести карету.
Так как за последние дни совершилось много насилия всемогущими временщиками, в руки которых попадали города и жизнь и смерть целых поколений, то подобные кортежи провожались недобрым взглядом и не всегда кончались добром.
Но ювелир — простой человек: ему никто не давал права карать и миловать, ему только приказано было вычистить начисто золотую корону, в которой, по обычаю страны, появлялись короли в редкие дни объявлений государственных актов исключительной важности.
Кому же, как не ему, старому и испытанному, умевшему так мудро держать за зубами свой острый язык, доверить эту страшную, ослепляющую своим блеском корону?
Шутя и балагуря, поднялся ювелир по золотым лестницам и там, в отведенном ему зале, запертый под замком, взялся за работу.
Да, это был редкий случай увидеть вещи, о которых старик только мог догадываться.
Немало чудес совершилось у него на глазах, и не раз обезумевший народ сгонял с престола своих законных королей, как последних карманников, и всегда в таких случаях выплывала на свет корона, и он призывался подновлять и заделывать прорехи, но никогда еще из заваленных дворцовых кладовых не появлялось столь великолепного, столь сумасшедшего произведения нечеловеческих рук.
Подлинно, в завтрашнем дне таилось неслыханное.
C великой бережливостью, трясясь, как над святыней, которую всякую минуту, ревнуя, может попрать нелегкая, повынимал он камни из золотой, облепленной кусками грязи и глины короны и, чуть заметный в огромном зале, кутая сухие зябкие плечи в теплый женский платок, забегал пальчиками по сокровищам.
И играл ими, этими сказочными яхонтами, этими синими-синими, и алыми, и черными камнями, этими изумрудами, от взгляда которых пышет весною, перевертывал их, перебрасывал, вдыхал, как живое, брал, как живое, на ловкий язык, катал на чуткой ладони, строил рядами, сгребал в кучу и замирал, весь зеленый, и алый, и синий, и черный в смешанном первородном свете.
Тьмы и тьмы голов мелькнули перед ним, тьмы и тьмы рук протянулись к нему и вереницы одна за другой прошли и заполнили весь зал, унизали сверху донизу все стены, и там, под звездным куполом, повисли, и закачались безрукие, безногие твари… глаза…
Задыхался старик, рассыпал камни. Цеплялись камни, прилипали к его рухляди, катились, перекатывались по коврам, по парче, по мрамору, и гудели, как колокол.
Этот гул, этот блеск выворачивали его маленькие глаза, и они становились с тарелки, — они видели и первый и последний день.
Человек чистил, торопился, начищал камушки и, делая всевозможные сочетания и располагая их, как находил лучшим, вставлял в свою корону.
Он узнавал ее, свою древнюю, на которую посягнуть не решится ни одна сила в мире, но которая вечно тянет к себе и наслаивает трупы на трупы.
Вечером, когда стемнело и запертые раскрылись двери и зажглись люстры, встал старик с своего места и в короне, как царь, стоял посреди залы, и корона дала такой блеск, от которого дрогнули несокрушимые дворцовые стены.
И эта написанная завтрашняя воля, долженствующая перевернуть землю до ее основания, завтра же под этим блеском полетит к черту, и в три дуги согнутся рабьи спины и трижды на смерть поклянется подпольная глухая месть разбить трон и рассеять эти самоцветные камни адской короны.
— Они сами не знают чего хотят!
Он знал, чего он сам хотел.
Спускался старик по золотым лестницам, проходил среди подобострастных рядов, провожаемый льстивой улыбкой, под которой наглость брала города и дрожала мелкая душонка.
* * *
Час ночи прошел. И завтрашний просыпался свободный день.
Желания притупились, — не закручивались, и безумный бич не летел летом, не бил набатом, — он, заглушённый ещанием, гнал на улицы, собирал на площади, приковывая и старого и малого друг к другу.
И толпы, с перекошенными подозрительностью глазами, тысячу и один раз обманутые и обманувшиеся, тесно и угрюмо шли куда-то с подкатывающим к сердцу отчаянием.
Старик — придворный ювелир, — кутая сухие зябкие плечи в теплый женский платок, сидел в своей конуре, и глядел перед собой маленькими глазками, ставшими с тарелки.
В этих ужаснувшихся глазах кипел сам ужас, тоска и хохот.
А мимо окна шли и шмыгали тысячи ног неуверенно, как пьяные, и пьяные от отчаяния.
И, потирая руки, старик, как посаженный на кол, корчился весь при мысли о воле и, подняв однажды из глуби всю жизнь и взглянув прямо в глаза первому и последнему дню, он смеялся, брызжа в толпы проклятия и шутки.
Первородным светом светилась на его седой голове древняя корона.
И свободная занималась за окном заря над свободным городом и свободной страной, наливаясь кровью и тоской, как глаза старика, и разгоралась, чтобы кровавой и тоскующей завековать век.
От века темных, без значенья дней,
в хаосе бурь и плаве жизней,
в каком-то дьявольски-запутанном вращеньи
зачаточных светил и диком реве вихрей,
незримо друг для друга томились божества,
два голубя, —
Омель и Ен.
И даль безгранная, и тьмы бесформенных созданий,
и чары сновиденья, и тягота избытка власти,
тоска невысказанных слов,
и сил невылитых в созвучья —
такими адами, такими пытками
впивались в душу и рвали сердце,
что воле божества уж наступал конец,
и смерть была желанной…
В отчаяньи Ен бешено метнулся
в поток дымящихся металлов, —
и, одинокий вечно, одинокого в полете встретил.
То был Омель…
Весь облик полон неразгаданной сокрытой тайны;
глаза печальные, глаза темней времен грядущих;
движенья странные, коснувшиеся граней иного мира
Тогда возжглось у Ена желанье жаркое,
и смерти час оледенелся.
Раскинулась от ветра и до ветра твердь синяя,
и звезды тихие затеплили в своих оконцах глазки,
и медленно всплыло над защетинившимся лесом
ухо ночи — кровавая луна,
и серебро свое разлило
по выбившимся из горы ключам,
по алчно заструившимся потокам,
по глади рек и речек зеркально-ясных.
А белый свет — сын огненного солнца,
зазолотившись, осыпал землю белыми цветами,
и взоры осенил у человека и птиц оголосил.
Ен видел все…
Радостью безмерной забилось сердце.
Он поднялся на маковку Брусяных гор
и там любовно почил в величьи.
Усмешкой горькой встретил Омель творенье Ена,
усмешкой, перелившей горечь в грусть гнетущую.
Он вздохом тяжким развернул болота топкие,
окрасил гибельною кровью мертвый мох,
забархатил, завил гнилые лишаи,
огни обманно вздул средь леса,
пустил змею, червей, уродов, гадов
и чащи наводнил своей мечтой —
созданием причудливым и легким,
как бред у замерзающих, но не земным…
И в гложущей тоске в туман и мрак забился.
Когда ж морозы лютые сковали воздух,
Ен рассветил полнеба,
и плещущим огнем своих очей
взглянул на землю.
Она из золота красных лучей,
овеяна пыхом
полуденных ветров.
Ее бурное сердце рождает
кровавые зной
и жаждет и жаждет.
Рыжие дыбные косы —
растрепанный колос!
пламенны зарницы!
звездные росы сметают,
греют студеность речную,
душную засуху стелют,
кроя пути и дорогу
каменным покровом —
упорной коляной корой
Полднем таится во ржи,
наливая колос
янтарно-певучий —
веселую озимь.
Полднем таится,
и ждет изждалася
Уф! захватило
Много мелькнуло
цветистых головок,
— Постойте! куда вы?
И тихо померкла
говорливая тучка.
Она не знает, откуда зашла
и живет в этом мире?
Кто ей мать
и отец
в этом мире?
Она не знает, не помнит
рожденья,
но с зари до заката тоскует.
Затопила очи бездонною синью
васильков своих нежно-сулящих,
в васильках васильком
изо ржи
сторожить.
Ярая тишь наступающих гроз
ползла по огнистому небу —
там ветры, как псы,
языки разметали от жажды.
В испуге, цепляясь ручонками,
в колосья юркнуло детское тельце
— Дорогой, ненаглядный! —
Она задыхалась, дрожала.
Обняла и щекочет — —
Кувыркался мальчик
в объятьях,
обливался кровью
и кричал на все поле
от боли.
Напрасно!
Нет утоленья, нет превращенья.
Так с зари до заката тоскует.
И рвет себе груди,
рвет их огненно-белое тело.
О, мрачный Омель!
Туманность, вечно вьющая непохожие жизни!