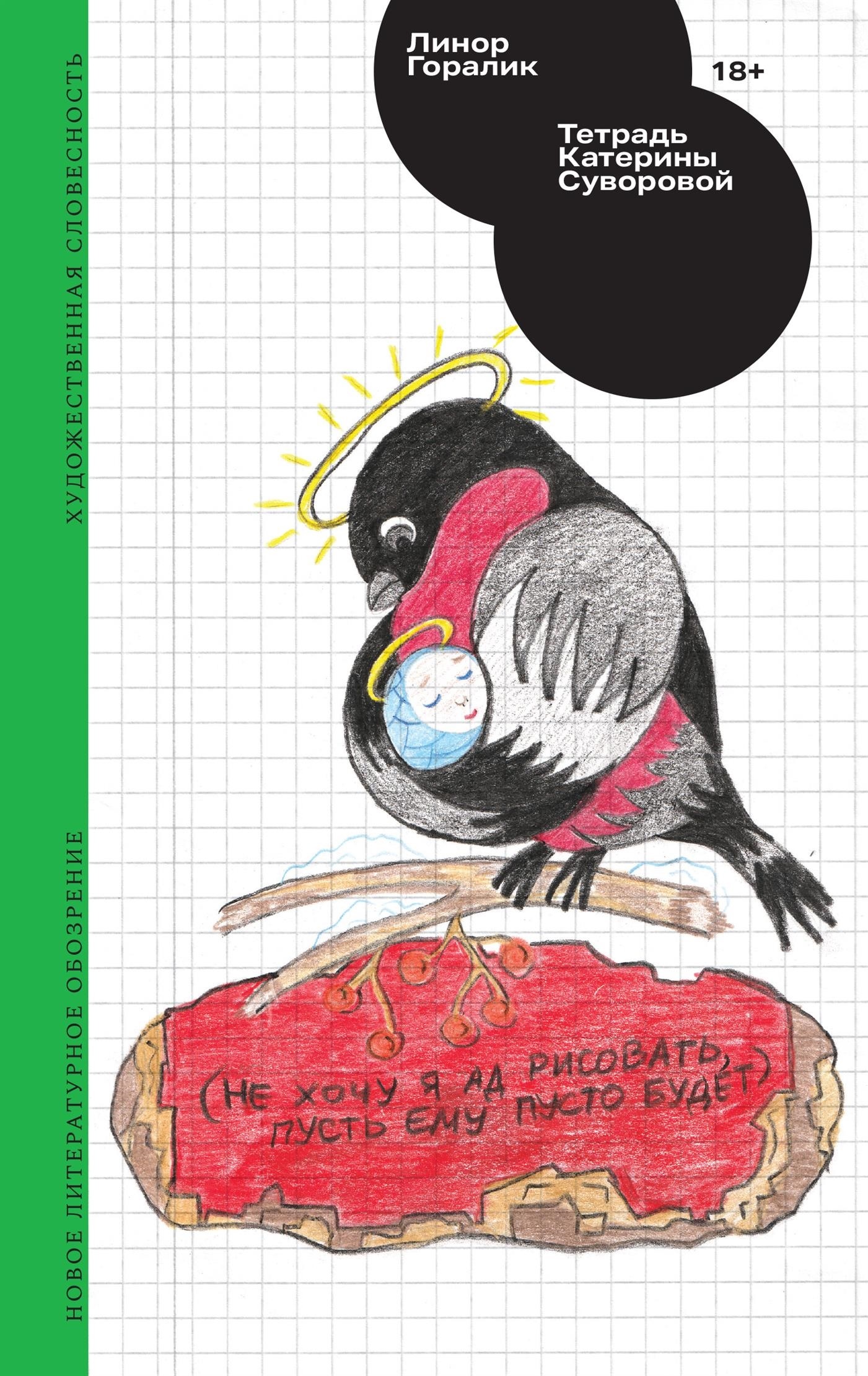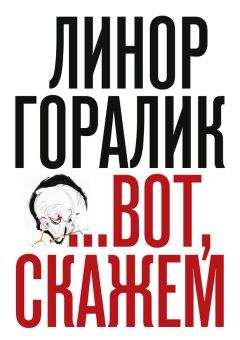надо прийти к этому факту хронологически, постепенно, и тогда он будет отличаться от того, что было со мной раньше, от того, что было ТОГДА. Хорошо, только успокойся, успокойся, успокойся, и давай ПОСТЕПЕННО. И ты убедишься, что тебе ничего не грозит, ничего не может грозить. Нам ничего не грозит, мой козленок, мой маленький детеныш, мой золотой слиточек. БОЛЬШЕ НИКТО НИКОГДА НЕ ЗАБЕРЕТ ТЕБЯ У МЕНЯ.
Поехали.
Сегодня 12 марта 1983 года, суббота. Это обычный день, не имеет смысла описывать утро. Примерно в 12:30 я вышла на кухню, там пахло мясом, жарким, и пирогом, яблочным пирогом, и я увидела, что наша с тобой соседка, Елена Зосимовна, суетится вокруг их плиты и пытается приблизительно одновременно вынуть пирог из духовки и помешать жаркое в чугунке. Я сказала: «Елена Зосимовна, давайте я помогу вам с готовкой. Я хорошо умею, у меня рука легкая». Она очень смутилась, и я поняла почему: на голове у нее были бигуди, на тоненьких веках – синие тени, а под фартуком – нарядная импортная кофточка. Они ждали гостей (я видела за несколько минут до этого, как Яков Михайлович постелил мокрую серую тряпку на пороге их комнаты, явно завершив мытье полов), и она боялась, что, если я ей помогу, меня придется звать. «У меня как раз есть полчасика, – соврала я, – а потом я к подружке побегу». Она поняла, что я вру, но улыбнулась с облегчением – она явно не успевала, – и мы с ней принялись быстро резать салат: я – яблочки, а она – плавленый сырок. Понятно мне было по количеству приготовленного, что гостей они ждут немного, да и куда много-то при нашем квартирном вопросе, – может быть, еще одну пару, может быть, две. Понятно было и то, что гости званы на час, и я уже готова была смыться в нашу с тобой комнату, когда раньше времени прозвенел их звонок, дерганый. Елена Зосимовна, вспомнив про бигуди, заметалась. Я подтолкнула ее к ванной и сказала: «Идите, я впущу!» – и она юркнула в ванную, а я пошла к двери. Я улыбнулась и открыла дверь.
За дверью стоял этот человек.
Этот человек не узнал меня.
Я нетвердо помню, что происходило.
Я полагаю, что время шло, но я стояла и смотрела на этого человека молча. Я думаю, что я продолжала улыбаться.
Этот человек не узнал меня.
Я полагаю, что он не узнал меня прибранную, одетую в нормальную одежду. Я думаю, он не узнал меня улыбающуюся.
Впрочем, нет. Я думаю, он не узнал меня вообще. Он не узнал меня, потому что нас много. Нас много, много, много, много, много проходит через его руки ТАМ. Он не запоминает нас.
Я думаю, что я стояла очень долго.
Он перестал улыбаться. Его лицо стало растерянным. (Сейчас я так думаю. Кажется, я не помню.)
Я не думала, что можно испытывать такой чистый, такой беспримесный ужас. Понимаешь, мой котенок, мой маленький, я НЕ СРАЗУ поняла, что этот человек не узнал меня. Понимаешь, мой котенок, я ведь решила, что он пришел ЗА МНОЙ.
Про ужас. Ужас, который я испытывала ТАМ, был другим: это был ужас перед тем, что сделают со мной. Сейчас, сегодня, через час, завтра. А в этот раз, когда я увидела его, когда я решила, что он пришел забрать меня туда, ужас вдруг оказался каким-то КРИСТАЛЬНЫМ. В нем не было ничего конкретного. Он был как из сказки.
Потом чьи-то руки опустились мне на плечи, и я поняла, что меня уведут ТУДА СЕЙЧАС. Я мысленно сказала тебе, тебе, остававшемуся в нашей комнате все это время, тебе, моему умнице, лежавшему в этот момент под кроватью: «Не дыши. Не дыши. Не дыши». Я решила, что не буду ни сопротивляться, ни кричать, я пойду с ними очень спокойно, потому что тогда есть шанс, что они не войдут в комнату. И тут у меня из-за спины раздался игривый голос Елены Зосимовны, и я вдруг почувствовала тяжелый, сладкий запах ее духов: «Здрасте-здрасте, дорогой доктор! Как всегда, с соседями-то реже всех видимся!» И этот человек поверх моей головы ответил не менее игриво: «Вызывали?» И я заметила, что у него в руках цветы и бутылка, а за ним на лестничной клетке маячит маленькая женщина.
Елена Зосимовна силой сдвинула меня, и они вошли, и прошли, и следующее, что я помню, – я тут, я тут, я тут. Я тут, я тут. Я тут.
Я НЕ ТАМ.
Прости, прости, прости, прости меня. Я клялась себе, что никогда, никогда, никогда не упомяну при тебе ТАМ, но я не выдержала. Но вот: я тут, я тут, я тут. Все хорошо. Все в полном порядке.
Он сидит за стеной. Он прямо сейчас сидит за стеной от меня. Но он не может велеть привязать меня к койке, не может велеть… он не может ничего, ничего, ничего. Как, как, как мне это понять? Сердце, остановись. Приняла мамин валидол. Не помогает, не помогает. У него есть жена. Он ест салат из плавленых сырков. Мне предстоит сесть на тот же унитаз, на котором будет сидеть он.
+
Ты поспал, мой маленький, а я не спала. Сердце бум, бум, бум. Я ждала, когда они пойдут домой. К счастью, был ливень, был страшный ливень, и никого не разглядеть, ничего – не разглядеть меня. Малыш мой, малыш, горе: в трех углах от нас, они живут в трех углах от нас. Я могла сто раз наткнуться на него – что, если бы он пошел в наш гастроном, в нашу несчастную булочную? Нет, конечно нет, за него все покупает жена, разумеется, – но ходит же он по улицам! А трамвай! Как я сяду теперь в трамвай?!!! Как нам с тобой кормить Марфу?.. Горе, горе, горе, словно расплывается от их дома по карте в моей голове огромное пятно слизи и крови, и крошечная наша жизнь тонет в нем… Так, прекрати, истеричка, прекрати, прекрати!!! Маленький мой, зернышко мое, мой финик, моя абрикосовая косточка, прости меня, я ужасная, я ужасная мать. Я обещаю тебе: все это глупости. Я успокоюсь, и будет у нас план. Не отдам я нашу жизнь этому человеку, конечно. Я все придумаю. Я обещаю тебе. |||| Дописываю днем: успокоилась. Все наоборот. Я должна проследить за ним и понять, куда он ходит, когда, как, где. И тогда я смогу вычесть его из нашей жизни – так проложить все наши с тобой маршруты и пути, чтобы не натыкаться на него нигде и никогда. Но какая же я поразительная идиотка: