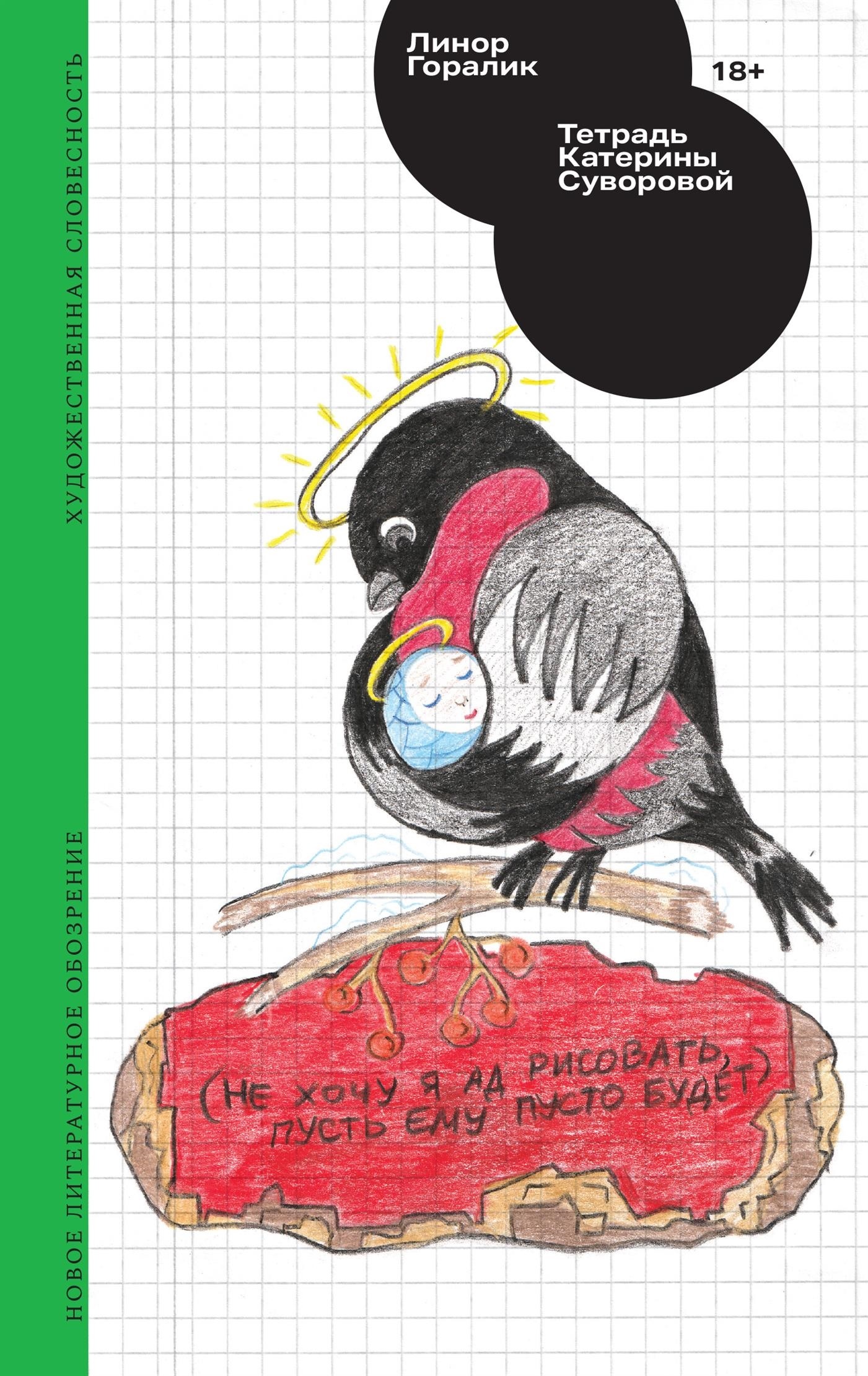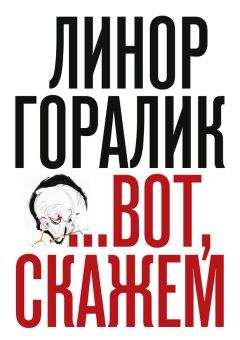боль такую, которую ты даже носить на себе не можешь, а которая ходит рядом с тобой вечно, как твоя тень, ты, мой малыш, видимо, можешь ненавидеть этого человека так сильно, что ничего об этом не знаешь, – как не знаешь, не чувствуешь, что красные кровяные тельца бегут у тебя в венах. Эта ненависть – просто ты сам, и это ужасно, мой маленький, это ужасно, ужасно, это самая великая победа, которую дьявол может надо тобою одержать, страшнее победы нет, – по крайней мере, я и представить себе не могу. Положим, горит в тебе ненависть – обыкновенная, плотная, страшная ненависть к какому-нибудь человеку. Это очень дурно, но ты все силы на борьбу с ней бросить можешь, сражаться можешь, Господа призвав на помощь, и ты можешь видеть, затухает она или разгорается, побеждаешь ты в своей борьбе или проигрываешь. А когда ненависть так страшна, так велика, что ты и не видишь ее, ты проиграл, ты проиграл заведомо и сразу, и это так ужасно, мой маленький, так это ужасно… И такой я была. Как же я ненавидела, ненавидела, ненавидела, оказывается, этого человека! Пишу сейчас эти слова – и холодом меня подирает, а сама думаю: как можно было быть дурой такой? Ведь надо было насторожиться: с тех пор как вышла ОТТУДА, не вспомнила о нем НИ РАЗУ. Как будто не было его. Сколько было снов ужасных, ужасных – и там не являлся… Как будто черный кокон из ненависти скрывал его от меня, кокон-невидимка…
+
Но пока я лежала, я уж все вспомнила. Никогда меня не зовут к телефону, а тут Яков Михайлович позвал – кто-то ошибся номером, попросил Катерину. Я беру трубку – а голоса-то и нет, орала-орала без звука в подушку, все проорала. Как он приходил, появлялся. Руки у него всегда очень чистые были, а ногти странные – полосочки, почти не было ногтей у него. И нас называл «ее». Ее то, ее се. Лежала – орала, орала, орала, а сейчас пишу это, рассказываю тебе – и одно горе у меня внутри. Не за себя горе! За него, за него горе. Ведь любит Соню! Живой, живой, живой. И жену любит, я это знаю теперь, не может не любить, в Соне ее любит, а значит, и просто любит, мне ли не понимать. И шел в медицину, я знаю, не затем, чтобы «ее то, ее се». Искалечили, искалечили, как они всех, всех, всех калечат, ничто живое не может у них живым оставаться, в этом их мертвом, мертвом, мертвом, мертвом мире. Искалеченный, но живой, а живой, мой маленький, – значит, не потерянный, значит, просто заблудший, одинокий, и я вижу его – там, на снегу, – как он идет по холоду в темноте, и так он и идет по жизни – по холоду в темноте, понимаешь? Я знаю, ты понимаешь. Рыба умерла – и сколько во мне ненависти к себе, сколько во мне вины, а в нем, в нем сколько ненависти к себе и вины за все, за все, за «ее то, ее се»? Я поняла сейчас: да он как я, этой ненависти к себе и вины в нем столько, сколько у меня к нему было ненависти, столько, что он их от ужаса даже не видит, наверное! Господи, несчастный, несчастный, бедный, бедный маленький человек, бедный маленький Марк Фридрихович! Сижу и плачу. Господи, Господи всевышний, пожалуйста, пожалуйста, помоги ему, облегчи его тягость, облегчи его ношу. Пишу, а в душе думаю: спаси его, и сотни вокруг него спасутся. Ведь не сможет же он тогда «ее то, ее се»?..
+
Снилось опять, что разрывают низ живота и едят оттуда. Боль не проходит, и анальгин не помогает. <Запись вымарана.>
+
Вот что я придумала, мой малыш, и вот что мы с тобой будем делать всегда, всегда, всегда, я очень, очень хочу научить тебя этому. Нет, так нельзя говорить: «Мы будем делать», «Мы будем делать всегда»; я буду молить Господа, чтобы он дал мне сил так делать, а ты, мой маленький, ты будешь в сто, в тысячу раз лучше меня, и в тебе я не сомневаюсь. Если какой человек причинит нам боль, мы не будем спрашивать себя: «Что его поступок сделал с нами?» – но будем спрашивать себя: «Что его поступок сделал с ним?» Какое горе он с этим человеком сотворил? Какое страдание ему самому принес? Как он носит теперь это страдание? И тогда мы сможем не по себе печалиться, от чего только гордыня, мой малыш, гордыня, и уныние, и слабость, и бесконечная грязь, а ему сострадать в том, в чем он не может, наверное, найти сострадание, потому что, может быть, страшится или стыдится о своем поступке рассказать, а тем более здесь, в этом душном, страшном месте, где даже к Господу за утешением нельзя обратиться, даже к тем нельзя обратиться, кто Господне слово ему бы принес. А я знаю, я ЗНАЮ <написано заглавными буквами, дважды подчеркнуто>, что Марк Фридрихович, Марк Фридрихович, Марк Фридрихович Вайс страдает, – пусть нет, не каждый миг, не каждую секунду, но я вижу, вижу прямо эти утра – некоторые утра, – и это стояние перед зеркалом, и все он видит, все видит, понимаешь? В груди у меня болит, когда я смотрю на него из этого зеркала, так болит у меня в груди его болью… Ты же понимаешь меня, да, мой маленький? Все ты понимаешь – пока я, дура, это пишу, ты в чистоте своей в сто раз быстрее и лучше все понял и только улыбаешься мне: «Ну что тут размазывать…» Ну прости меня, прости меня, у меня сейчас так ясно, так просто все в голове, и мне так надо, так надо убедиться, что я все, все тебе объяснила.
+
Я опять могу есть, представляешь? Я купила нам пряников пакет, и сделала настоящего чаю, не поленилась, – крепкого и сладкого, не в чашке заваривала, а прямо кипяточком чайник пролила, – и сидела, ни о чем не думала, смотрела, как воробей по веткам скачет, и вдруг почувствовала, что хорошо так сидеть, чай пить, и расплакалась от чувства Господней милости ко мне, милости совершенной, необъятной, ничем не заслуженной.
+
Умерла сегодня ночью наша тетя Сима. Я к ней пошла стучаться перед гастрономом, а она не отвечает. Я было дверь приоткрыть, а она запирается всегда. У меня сердце почуяло неладное – не знаю я почему. Позвала Якова Михайловича, у него ключ запасной, открыли – лежит