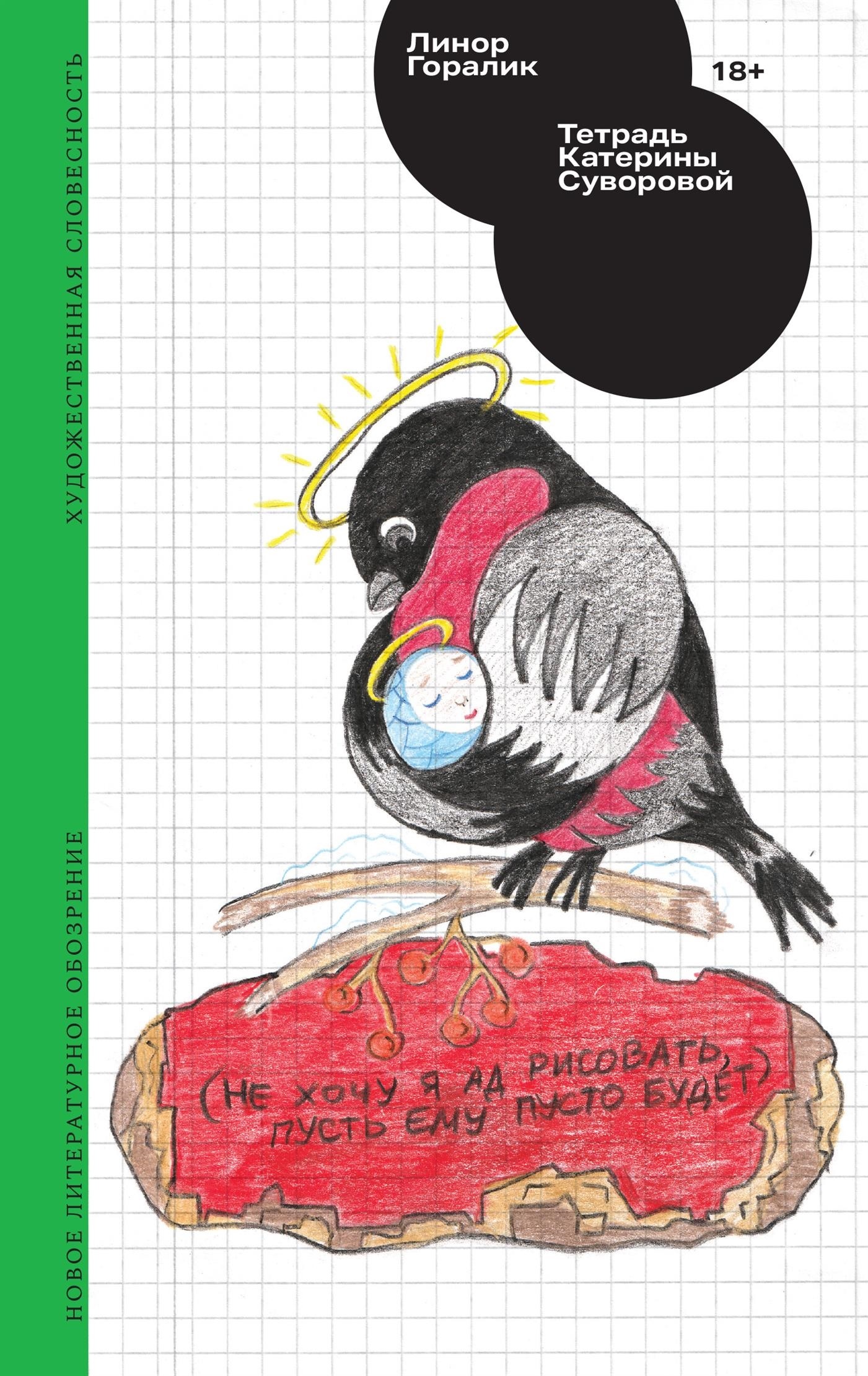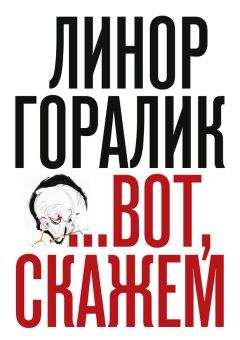Весь рынок, весь, весь в навьюченных женщинах – и он. Прекрасный, прекрасный, живой. Как ему сказать: «Мы Соня, Соня, мы были Соня, нам было десять, нам и сейчас, может быть, десять, посмотрите на нас»?! Он умел, я верю, он умел, он… С ним это сделали, сделали, может, еще в мединституте, я и это должна сказать ему – как? Я попытаюсь, мой малыш, только держи меня за руку очень-очень крепко. Он, все купив, зашел в пышечную у выхода и жадно ел пышки, очень был голодный. Господи, Господи, все мы дети твои. В следующее воскресенье я смогу, смогу.
+
Я дура, дура, дура, бессмысленная идиотка, криворотая, кривоязыкая, тупая, тупая, тупая. Как он бросил пышку на столик и быстро пошел от меня, кинувшейся за ним, забыл бидончик на полу, а потом побежал, побежал мелко, хлопая себя по бедрам сумками и авоськами, и я, идиотка, тоже побежала, что-то бормоча про то, что я вижу его внутри живого… Я звучала сумасшедшей <подчеркнуто>, полностью, по-настоящему сумасшедшей <подчеркнуто>, ненормальной <подчеркнуто>, я ИДИОТКА, господи, как стыдно, как невыносимо стыдно, и когда я остановилась, я поняла, что в какой-то момент отпустила твою руку, потеряла тебя в рыночной толпе и стою одна, потная, взмокшая под пальто, и на меня смотрят – на сумасшедшую бабу, которая только что с дикими выкриками бежала за мужиком. И я, не разыскивая тебя, пошла вон. Я не заслужила тебя в этот момент. Я не заслужила.
+
Единственное, что я могу сделать, – это написать ему письмо и отдать. Если он прочтет – прекрасно, он поймет, я знаю, что он поймет. Если выкинет – я сделала все, что могла, я не буду больше пытаться, я буду жить дальше. Очень боюсь опять встречаться с ним на рынке, не могу. Выйду и просто подойду, как только смогу подойти. Пусть при людях, пусть хоть что. Протяну письмо, попрошу прочесть в свободное время и пойду. И все. И все.
+
Кто ты? Я все хуже это понимаю и с того момента на рынке все больше думаю об этом и все меньше говорю с тобой. Эта тетрадь существует для тебя, только для тебя – и вдруг я ловлю себя на том, что обращения к тебе даются мне тяжело. Я перестаю чувствовать твое присутствие, мой маленький ослик. Красная нитка, тянущаяся с ТЕХ ПОР от моего живота к твоему сердцу, вдруг стала терять цвет и провисать. Я начинаю подозревать, что ты был соткан не только из моей крови, но и из моей боли. И вот сейчас, сейчас, когда все стало иначе, совсем иначе, ты, к моему ужасу, начинаешь уходить от меня. Вдруг поняла: у тебя нет и никогда не было имени. Потому что ты – о, я поняла, кто ты. Вот кто: Ты Тот, Кто был послан мне как величайшая милость, Ты Тот, Кто, держа меня за руку, вывел из ада, вывел сюда, где я могу протянуть руку другому. Спасибо, спасибо, спасибо Господу за этот великий дар, я недостойна его, я недостойна. И ты – спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Но я уже не могу разглядеть в деталях твоего сияющего лица.
<На этом записи в тетради обрываются.>
Отрывок из интервью с Софьей Марковной Вайс, март 2029 года
– …Отец, к своему сожалению, был еще и очень красив. Это часто усложняло ему работу с пациентками. Я помню такой инцидент: в Тухачевске объявили День сладкоежки, мне было, наверное, лет десять. Мы пошли всей семьей, я страшно радовалась, папа держал меня за руку, нам было очень весело. Вдруг дорогу нам заступила какая-то растрепанная женщина, как оказалось потом – папина бывшая пациентка. Она принесла ему любовное письмо. Папа отказывался его взять, и тогда женщина схватила меня за плечи и стала говорить какой-то бред про своего ребенка, – кажется, она объясняла, что у нее был ребенок от папы! Я разревелась, папа пришел в бешенство, охрана задержала женщину, ей вызвали скорую и увезли в больницу. Словом, жизнь у папы была непростая…
Биографическая справка
Катерина Михайловна Суворова (1950–1983), по образованию искусствовед, по профессии экскурсовод в городском художественном музее, позже пенсионер по инвалидности, проживала в городе Тухачевске, находящемся на месте Санкт-Петербурга в отсутствие Санкт-Петербурга. Приблизительно в октябре 1981 года Суворова знакомится с Яковом Петровским, который приводит ее в так называемую Тухачевскую Бумажную Церковь. Церковь была, по сути, подпольным кружком христиан, объединившихся вокруг поэта и математика Сергея Яковлевича Квадратова («отца Сергия»), принявшего сан уже в послесоветское время. Суворова горячо открывается идеям христианства и, по воспоминаниям других членов Бумажной Церкви, становится одним из самых ярых ее адептов, что беспокоит и пугает некоторых прихожан: в силу своей увлеченности Суворова начинает нарушать принятые среди участников кружка меры безопасности. В частности, она недостаточно строго следует «Правилу трех „не“»: не говорить о Церкви с незнакомыми; не упоминать свою веру за пределами Церкви; не миссионерствовать. Суворова соблюдает первое правило, но все чаще нарушает вторые два, что начинает вызывать неоднозначные реакции не только у ее единоверцев, но и у ее близких. Суворова живет с лежачей матерью в крошечной квартире у Западной ТОВКи [3] и состоит с ней в прекрасных отношениях, однако брат матери Виктор Еремкин, с которым Суворова пытается вести религиозные беседы, реагирует на внезапное обращение племянницы к Богу двойственно. Сперва он посмеивается над Катериной, однако позже внезапно начинает интересоваться ее системой взглядов и подробно расспрашивать о различных аспектах веры. Будучи неофитом, Катерина нередко путается и сбивается, однако Виктора это не смущает. Катерина уверена, что Виктор вот-вот будет готов прийти в Церковь, но реальность оказывается иной: утром 6 марта 1982 года Виктор появляется на пороге квартиры, где проживают Катерина и ее мать, в сопровождении санитаров. Катерину госпитализируют в психиатрическое отделение Тухачевского краевого психоневрологического центра (ТКПНЦ). Ее мать, Елену Александровну Суворову, через два дня госпитализируют в интернат для престарелых и инвалидов, находящийся на территории того же центра, где она спустя несколько недель умирает от больничной пневмонии. Квартира остается Виктору. К моменту госпитализации Катерина находится на пятом месяце беременности. Неизвестно, в какой момент она теряет плод, как неизвестно и имя отца ее ребенка. Ее освобождают через пять месяцев, в конце июля 1982 года. Катерина селится в шестиметровой комнате коммунальной квартиры, где прежде жил Виктор. Уверенная, что за ней установлена слежка с целью вычислить и арестовать других прихожан Бумажной Церкви, она покидает дом только для того, чтобы купить продукты. Судя по всему, недатированные записи в общей