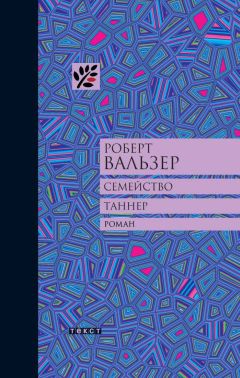Едва лишь Симон пробормотал это или подумал, как на свободное место за столиком подсел седоволосый старик. Лицо у него было изможденное, землисто-бледное, из носа текло, вернее, на носу висела капля, большая, тяжелая, которая почему-то никак не падала. Все время казалось, вот сейчас она упадет. Ан нет, висит себе и висит. Старик заказал себе тарелку тушеной картошки, а больше ничего, и съел ее, тщательно и с удовольствием посолив с кончика ножа. Но перед этим сложил ладони, помолился Господу Богу. Симон позволил себе безобидную шуточку: тайком заказал официантке кусок жаркого, а когда заказ прибыл, от души посмеялся удивлению старика, перед которым поставили это угощение.
— Отчего вы молитесь перед едой? — напрямик спросил Симон.
— Такая у меня потребность, оттого и молюсь, — отвечал старик.
— Тогда я рад, что видел, как вы молитесь. Просто мне было любопытно, какое чувство подвигло вас к молитве.
— При этом испытываешь много чувств, сударь мой! Вы, к примеру, наверняка не молитесь. У нынешних молодых людей нет на это ни времени, ни желания. Могу понять. Когда молюсь, я всего лишь следую привычке, которую завел давным-давно, ради утешения.
— Вы всегда жили в бедности?
— Всегда.
Когда старик произнес это, в душной, хотя и опрятной, но бедной столовой появилась прелестная фигура госпожи Клары. Все руки, державшие вилку, ложку, нож или чашку, на миг замерли. Все рты открылись, все глаза воззрились на существо, которое казалось в этом помещении совершенно чуждым. Ведь Клара была настоящая дама, а в эту минуту даже больше чем дама. Симону и самому почудилось, будто из отверстых, трепещущих небес выпорхнул ангел и слетел на землю, в темный уголок, чтобы уже одним своим благодатным видом осчастливить тамошних обитателей. Именно так Симон всегда представлял себе благотворительницу, которая идет к убогим и бедным, не имеющим ничего, кроме сомнительного преимущества, что в любую минуту на них могут обрушиться бичи забот. Клара держалась в этом народном приюте совершенно естественно, будто она и впрямь прилетевшее издалека высшее существо из иных пределов, из иного пространства, иного мира. Именно дивная ее лучезарность заставила всех этих робких людей распахнуть глаза, затаить дыхание и ухватиться одной рукой за другую, чтобы от внезапного волнения не выронить нож. Нежданная красота Клары болезненно поразила этих людей, заставила задуматься. У каждого из них вдруг мелькнула мысль, сколько же всякого-разного есть на свете, помимо тяжкого труда и забот о хлебе насущном. Об этаком бодром здравии и совершенных, щедрых, улыбчивых прелестях они все почти позабыли, настолько их жизнь утонула в черной, нечистой обыденщине, истрепалась в заботах, вцепилась в низменное. Вот что они — хотя, пожалуй, и не все отчетливо — мучительно осознали; ведь поистине мучительно видеть красоту, которая уже одним своим благоуханием пьянит и может убить, коли мысленно дерзнешь улыбнуться ее улыбкой. Поэтому все они невольно гримасничали, кривили лица, глядя снизу вверх на эту женщину, что возвышалась над ними, поскольку все они сидели на низких стульях, в тесноте, а она, высокая, стояла выпрямившись во весь рост. Казалось, она кого-то искала. Симон притаился в своем углу, не переставая улыбаться навстречу ищущей. Она долго его не замечала, хотя помещение было сравнительно невелико; наверно, ей пришлось напрягать зрение, чтобы взгляд привык к пятнистой, темной, расплывчатой картине и различил фигуры, которых ее глаза обычно вовсе не замечали. Слегка раздосадованная, она уже хотела удалиться, но тут взгляд ее упал на Симона и узнал его.
— Ах, вот вы где, еще и в угол забились! — сказала она и с величайшей радостью села рядом, между своим молодым другом и стариком, на носу у которого по-прежнему висела большая блестящая капля.
Старик спал. Спать в таких заведениях не разрешалось, однако ежедневно случалось, что старики, покушав, засыпали — по причине самой обыкновенной, необоримой усталости. Этот старик, наверно, долго и бесполезно бродил пешком по городским улицам. Наверно, спрашивал насчет работы, повсюду, куда его тихонько вели размышления. Вконец усталый, он, наверно, тем не менее пытался в этот день хоть чего-то добиться и, напрягая все силы, взобрался на гору, ведь город поднимался вверх по склону, но и там, наверху, его спровадили так же быстро, как и здесь, внизу; и он снова поплелся вниз, обессилевший, до смерти затравленный, и прибрел сюда. Как он в его-то годы еще мог искать работу, как у него, старика, хватало силы воли надеяться, что он ее найдет, — при одной мысли об этом становилось горько и страшно. Однако ж такая мысль прямо-таки напрашивалась. У старика не было иного пристанища, кроме этого заведения, но и здесь он мог провести лишь считанные часы, ведь вечером столовая закрывалась. Наверно, поэтому он молился, чтобы привнести в ужасающую серьезность своего бытия тихую, утешительную мелодию. Поэтому говорил: «Мне потребна молитва». Стало быть, стремление к набожности тут ни при чем, все дело в чрезвычайно печальной потребности почувствовать ласковую руку, детскую или дочернюю, которая тихонько и утешительно погладит его бедный морщинистый лоб. Быть может, у старика есть дочери… а у него самого? Подобным размышлениям легко мог предаться сидящий рядом, глядя, как старик спит — голова странно неподвижна, руки подпирают подбородок.
— Приехал ваш брат, Симон, в офицерском мундире, — сказала Клара, — и ваша сестра, и еще один господин, по имени Себастиан.
Симон тотчас расплатился за обед, и они вместе покинули столовую. После их ухода одна из подавальщиц заметила спящего, встряхнула его несколько раз и на удивление строго сказала:
— Не спать! Я к вам обращаюсь! Вы что, не слышите? Здесь спать нельзя!
Старик пробудился.
Завершился этот день чудесным вечером. Весь город гулял по красивой озерной набережной, под пышными деревьями с большими листьями. Прохаживаясь здесь, среди такого множества веселых, тихонько беседующих людей, ты невольно чувствовал себя будто в сказке. Город пламенел в огне закатного солнца, а позднее, черный и мрачный, догорал в тускнеющем зареве уже ушедшего за горизонт светила. Летом солнцу присуще что-то чудесное, пленительное. Озеро мерцало в темноте, множество огней искрилось в глубине тихих вод. До чего же великолепно выглядели мосты; идешь по ним и видишь, как внизу стремительно проплывают маленькие темные лодки; в лодках сидели девушки в светлых платьях, нередко с какой-нибудь большой плоскодонки, медленно и величаво скользившей по волнам, долетал теплый, певучий звук арфы, настраивающий на ночной лад. Этот звук терялся в черноте и вновь возвращался, оживал, звонкий и теплый, густой, берущий за сердце. Как далеко разносились звуки простого инструмента, на котором играл какой-то лодочник! Ночь от этого казалась еще больше и глубже. Вдали на берегу светились огоньки сельских поселений, словно сверкающие красноватые камешки на тяжелых, темных царских ризах. Вся земля словно благоухала и притихла, как спящая девушка. Огромный темный купол ночного неба раскинулся над людьми, над горами и огоньками. Озеро как бы утратило свою объемность, и небо обхватило его, заключило в себе, накрыло сводом. Люди собирались кучками. Множество молодежи, и все, казалось, погружены в мечты, и на всех лавочках теснились спокойные, отдыхающие люди. Впрочем, хватало и легкомысленных, горделиво кокетливых женщин, а также и мужчин, которые не сводили глаз с этих женщин, шли за ними следом, то слегка медлительно, то устремляясь вперед, пока наконец не собирались с духом и не находили слова, чтобы завести разговор. Кой-кому в этот вечер и головомойку устроили, как говорится.
Симон шагал обок Клауса и был счастлив меткими и простыми ответами внушить брату, который засыпал его вопросами, уверенность, что он отнюдь не конченый человек. Говорил он с известной гордостью и одновременно с оттенком смирения перед более зрелым братом, хотя тот, спрашивая об иных вещах как наивный ребенок, все ж таки обнаруживал ласковую озабоченность. Разговор они вели в красивых, длинных, витиеватых фразах, так получалось само собой, и Клаус радовался, что брат во многом выказывает понимание, тогда как ему казалось, что Симон, в его обстоятельствах; станет над этим смеяться и ехидничать.
— Я полагал тебя далеко не столь серьезным, каким вижу теперь!
— Не в моих привычках, — отвечал Симон, — показывать, что я с благоговением отношусь ко многим вещам. Обычно я держу это при себе, так как думаю, что бесполезно делать серьезную мину, коли судьба назначила тебе, ну то есть, может быть, назначила играть роль шута. Судеб много, очень много, и в первую очередь перед ними я готов склонить голову. Тут уж ничего не поделаешь. А в остальном пусть-ка кто попробует сказать, будто я смущенно и уныло вешаю голову. Я уже многим говорил, как со мною обстоит в этом смысле.