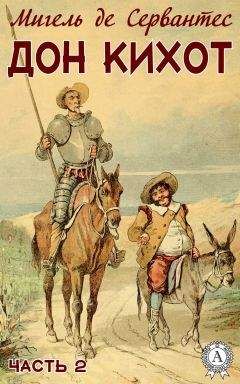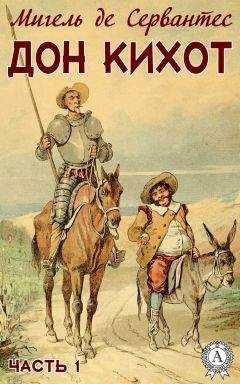– Я не могу положиться на твое великодушие, – ответил Дон-Кихот, – потому что ты жестокосерд, и хотя принадлежишь к черни, но изнежен.
Говоря таким образом, он все старался распустить его шнуровку. Видя это, Санчо вскочил на ноги, бросился на своего господина, схватил его в охапку и, подтолкнув ногой, опрокинул его на землю, за тем поставил ему правое колено на грудь и сжал его руки в своих, так что он не мог ни пошевельнуться, ни вскрикнуть. Дон-Кихот сказал ему глухим голосом: – Как, подлец, ты восстаешь против твоего господина и хозяина! Ты нападаешь на того, чей хлеб ты ешь!
– Я не делаю и не разделываю королей,[216] – ответил Санчо, – а помогаю себе самому, т. е. своему настоящему господину. Если ваша милость дадите мне слово оставить меня в покое и не стараться стегать меня теперь, так я вас отпущу и дам уйти, а не то ты умрешь здесь, изменник, враг доньи Санчи.[217]
Дон-Кихот обещал то, что он требовал: он поклялся жизнью своих мыслей, что не тронет на нем ни одной ниточки его кафтана и отныне предоставит на его волю и милость заботу о самобичевании в какое ему будет угодно время. Санчо поднялся и поскорее отошел на некоторое расстояние; но, опершись о другое дерево, он почувствовал, что что-то дотронулось до его головы. Он поднял руки и нащупал две мужских ноги в башмаках. Дрожа от страха, он побежал спрятаться под другим деревом, но и там было то же самое. Тогда он закричал о помощи, призывая Дон-Кихота. Дон-Кихот подбежал и спросил, что с ним случилось и чего он испугался. Санчо ответил, что все эти деревья полны человеческих ног. Дон-Кихот ощупал их и сразу повял, в чем дело. – Нечего тебе пугаться, Санчо, – сказал он, – эти ноги, которые ты нащупал и которых не можешь видеть, принадлежат, наверное, ворам и разбойникам, повешенным на этих деревьях, потому что правосудие, ловя их, имеет обыкновении вешать их здесь по двадцати – тридцати человек разом. Я вижу из этого, что мы должны быть уже недалеко от Барцелоны. – И его предположение было действительно верно. На заре они подняли глаза и увидали, какия гроздья висели на этих деревьях: это были тела бандитов.
Между тем рассвело, и они, напуганные мертвецами, еще более испугались при виде человек сорока живых бандитов, которые неожиданно окружили их, приказывая им на каталонском наречии оставаться на своих местах до прибытия их атамана. Дон-Кихот стоял на ногах, лошадь его была расседлана, копье было прислонено к дереву – словом, он был беззащитен. Ему пришлось скрестить руки и опустить голову, сохраняя силы до более удобного случая. Бандиты посетили Серого и не оставили на нем ни крошки из того, что находилось в котомке и в чемодане. Хорошо еще, что Санчо спрятал в кожаный пояс, который носил на животе, золотые, данные ему герцогом и привезенные им из дому. Впрочем, эти добрые люди, наверное, тщательно обыскали бы его и нашли бы то, что у него было спрятано между поясом и телом, если б в эту минуту не появился их атаман. Это был человек лет тридцати четырех, крепкий, высокий, со смуглым лицом и серьезным, уверенным взглядом. Он сидел на могучем коне, и на кольчуге его было четыре пистолета, из тех, которые называются в этих местах pedrenales.[218] Он увидал, что его оруженосцы (так называли себя люди этой профессии) собираются грабить Санчо Панса, и запретил им это. Они тотчас же повиновались, и пояс был спасен. Он удивился при виде копья у дерева, щита на земле и Дон-Кихота в вооружении, с мрачнейшим и жалчайшим лицом, олицетворением скорби. Он подошел к нему и сказал: – Не печальтесь так, любезнейший: вы попали в руки не какого-нибудь варвара Озириса, а Роке Гинарта, более сострадательного, нежели жестокого.[219] – Моя печаль, – ответил Дон-Кихот, – происходит не оттого, что я попал в твои руки, о, храбрый Роке, слава которого не имеет предела на земле: она происходит оттого, что моя небрежность допустила твоих солдат захватить меня не на седле, тогда как, по правилам странствующего рыцарства, в которому я принадлежу, я обязан жить всегда под ружьем и во всякую минуту быть настороже. Я должен сказать тебе, о, великий Гинарт, что, если б они застали меня на коне, с копьем и щитом, им бы не удалось так легко овладеть мною, ибо я Дон-Кихот Ламанчский, тот самый, который наполнил вселенную славой своих подвигов.
Роке Гинарт сразу понял, что болезнь Дон-Кихота состоит скорее в безумии, чем в храбрости, и хотя он несколько раз слыхал о нем, но никогда не верил в его историю и не мог допустить, чтоб такая фантазия могла овладеть человеком. Поэтому он очень обрадовался, встретив его, так как желал на деле убедиться в том, что слышал о нем.
– Доблестный рыцарь, – сказал он ему, – не отчаивайтесь и не считайте, что злая судьба привела вас сюда. Напротив, может случиться, что эти неприятные встречи направят на настоящую дорогу вашу сбившуюся с пути судьбу, ибо небо обыкновенно поднимает угнетенных и обогащает бедных странными путями и неслыханными способами, недоступными человеческому разуму.
Дон-Кихот хотел поблагодарить, когда они вдруг услыхали позади себя большой шум как бы от табуна лошадей. А, между тем, это была всего одна лошадь, на которой ехал, опустив удила, молодой человек лет двадцати в зеленом камковом обшитом золотом кафтане, валлонской шляпе с загнутыми полями, узких вычищенных ваксой сапогах, со шпагой, кинжалом и золотыми шпорами, с маленьким ружьем в руке и двумя пистолетами за поясом. Роке обернулся на шум и увидал молодого человека, который, приблизившись, сказал ему: – Я ищу тебя, о, храбрый Рок, чтоб найти в тебе если же средство, то, по крайней мере, облегчение моим несчастным. А чтоб не держать тебя долго в недоумении, потому что я вижу, что ты меня не узнаешь, скажу тебе, кто я. Я – Клавдия Геронима, дочь Симона Форте, твоего лучшего друга и заклятого врага Клаукеля Торрельяса, также и твоего врага, так как он принадлежит к противной стороне. Ты знаешь, что у этого Торрельяса есть сын, которого зовут Дон Висенте Торрельяс или, по крайней мере, звали так часа два назад. Скажу тебе в немногих словах, чтоб сократить рассказ о моих несчастьях, какое несчастье он мне причинил. Он увидел меня, стал ухаживать, я слушала его и тайком от отца платила ему взаимностью, потому что нет на свете женщины, как бы замкнуто и благоразумно она ни жила, у которой не нашлось бы времени для удовлетворения своих желаний, если она этого захочет. Словом, он обещал мне жениться на мне, а я дала ему слово принадлежать ему, но за нашими клятвами исполнения не последовало. Вчера я узнала, что он, забыв своя долг относительно меня, женится на другой, и что сегодня утром назначено их венчание. Эта весть встревожила мой ум и вывела меня из терпения. Так как отца моего не было дома, то мне легко было переодеться таким образом и, пустившись вскачь на этом коне, доехать до Дон Висенте, в одной миле отсюда. Там, не теряя времени на жалобы и на выслушивание его оправданий, я выстрелила в него из этого карабина и еще из этих двух пистолетов, всадив ему, как я полагаю, более двух пуль в тело и открыв таким образом выходы, из которых вместе с его кровью вышла и моя честь. Я оставила его на руках у его слуг, которые не осмелились или не сумели выступить на его защиту. Я приехала к тебе, чтоб ты помог мне бежать во Францию, где у меня есть родные, у которых я могу поселиться, и чтобы просить тебя еще защитить моего отца, чтобы многочисленная семья Дон Висенте не обратила на него своей ужасной мести.
Роке, пораженный красотой, энергией и странным приключением прекрасной Клавдии, ответил ей: – Поедемте, сударыня, посмотрим, умер ли ваш враг, а потом увидим, что нам предпринять.
Дон-Кихот внимательно выслушал все, что говорила Клавдия и что ответил Роке Гинарт.
– Никому, – вскричал он, – нет надобности защищать эту даму. Пусть мне подадут моего коня и мое оружие и подождите меня здесь. Я отправлюсь к этому рыцарю и заставлю его, живым или мертвым, сдержать слово, данное такой очаровательной красавице. – Пусть никто в этом не сомневается, – прибавил Санчо, – потому у моего господина счастливая рука в деле свадеб, еще нет и двух недель, как он заставил жениться другого человека, который тоже отказывался исполнить обещание, данное другой девушке, и если бы преследующие его волшебники не превратили настоящее лицо молодого человека в лицо лакея, названная девушка теперь уже не была бы девушкой.
Гинарт, которого больше интересовало приключение прекрасной Клавдии, чем речи его пленников, господина и слуги, не слушал ни того, ни другого, и, приказал своим оруженосцам возвратить Санчо все, что они сняли с его Серого, он велел им удаляться в место их ночевки, затем пустился галопом вместе с Клавдией к Дон Висенте, раненому или мертвому. Они приехали к тому месту, где Клавдия встретилась со своим любовником, но нашли там только свежие кровяные пятна. Оглянувшись вокруг, они увидали на вершине холма группу людей и сообразили, как оно и было на самом деле, что это слуги уносят Дон Висенте, живого или мертвого, чтобы перевязать ему раны или похоронить его. Они ускоряли шаги, чтоб нагнать их, что было нетрудно, так как те подвигались медленно. Они нашли Дон Висенте на руках у слуг, которых он умолял упавшим голосом дать ему умереть на этом месте, ибо боль, которую он испытывал от ран, не давала ему двигаться дальше. Роке и Клавдия соскочили с коней и приблизились к умирающему. Слуги перепугались при виде Гинарта, а Клавдия еще более взволновалась при виде Дон Висенте. Наполовину смягченная, наполовину суровая, они приблизилась к нему и взяла его за руку. – Если б ты мне дал эту руку, – сказала она, – как вы условились, ты не дошел бы до такого состояния. – Раненый дворянин открыл глаза, уже почти сомкнутые смертью, и, узнав Клавдию, сказал ей: – Я вижу, прекрасная обманутая Клавдия, что это ты убила меня. Мои желания и поступки никогда не были направлены на то, чтоб тебя оскорбить, и не заслужили такого наказания. – Как! – вскричала Клавдия. – Разве ты не собирался сегодня утром жениться на Леоноре, дочери богатого Бальбастро? – О, конечно, нет! – ответил Дон Висенте. – Моя несчастная звезда принесла тебе эту ложную весть, чтоб ты в порыве ревности лишила меня жизни, но так как я лишаюсь жизни, покидая ее в твоих объятиях, то считаю себя счастливым. Чтоб ты поверила моим словам, сожми мою руку и прими меня, если желаешь, в супруги. Другого удовлетворения я не могу тебе дать за оскорбление, которое я, по твоему мнению, нанес тебе.