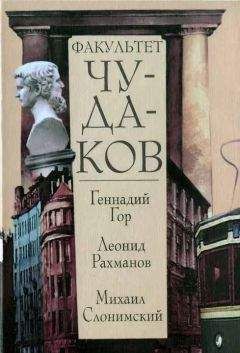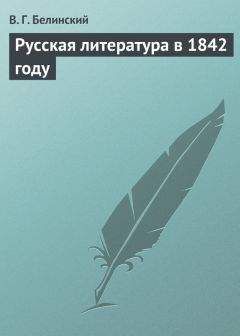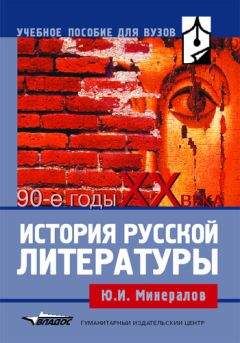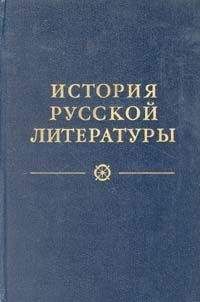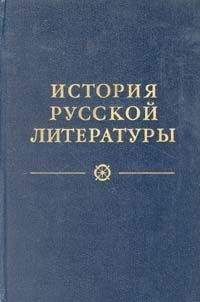Герой — студент, техник-конструктор на практике, «лирик» по внутреннему состоянию — строит «аэроконюшни», «караван-сарай для ночевки самолетов», а на самом деле — новый мир, в котором хочет чувствовать себя хозяином, хотя он пока и беспартийный. На первых же страницах появляется любопытная проговорка, заметная, однако, только сегодня, когда мы знаем, какую повесть почти одновременно сочиняет Андрей Платонов: «Но… котлован вырыт».
Рахмановская фабула, однако, движется иным путем. Герой делает чертежи, ведет уроки русского языка с красноармейцами, получает премию на конкурсе проектов ночной сигнализации на аэродромах. Два брата-антипода (конструкция, действительно, похожая на «Зависть») спорят о революции и мещанстве. В конце один умирает, а другой, «агитпроп Укома ВЛКСМ», уличает рассказчика в эстетическом, созерцательном отношении к жизни: «Увидя, припомня неизвестного человека, упавшего в уличную лужу, вы непременно скажете: „Он рухнул, как Перун…“ Я скажу: „Нализался, бедняга…“».
Против укома нет приема. Рассказчик быстро перековывается. Итог лета и повести он сначала выражает на «газетном языке» («вошел в комсомольскую среду и начал принимать живое и близкое участие в работе уездного комсомола»), а потом пытается найти «простые, негромкие и проникновенные слова». Получается, однако, высокопарно, неопределенно, но по сути — слишком просто: наряду с небом индивидуальной жизни «есть другая жизнь — для общества, которую мне приходится назвать по моей фантастической терминологии тоже небом». Но двух небес не бывает. Поэтому на самом деле в начале повести герой владел только полнебом, а вторую половину он собирается обрести после своего внезапного прозрения.
«Когда-нибудь, когда я „стану большим“, проживу целую жизнь и облетаю все небо, я напишу книгу жизней (песен, в сущности?) таких, как я, удачников и счастливцев. Им угрожал в свое время рок — стать лишненькими и похоронить себя на дне сладкой дыни под горькими семечками „проклятых“ (банальных!..) вопросов. Но успели они срочно выпрыгнуть из обывательской дыни и вот пошли по земле, грызя семечки, пошли по земле, как по небу, — счастливой и беспокойной походкой».
Старые банальные проклятые вопросы заменяются не менее банальными новыми ответами: повесть Рахманова точно передает распространенные умонастроения советских двадцатых годов.
Чуть нарушает этот бравурный финал последний стоп-кадр: выходящие на площадь из старой часовенки смирные засушенные старушки. Они напоминают герою карточку из старого уездного семейного альбома, за которую хозяин извиняется, краснея от натужной улыбки. В небо будущего эти взывающие к своему небу старухи не приглашены.
В «Базиле» (1933) Рахманов окончательно оставляет обезьянник новых форм, обращаясь к жанру распространенной в двадцатые годы повести о художнике-страдальце при старом режиме.
Типажная предсказуемость, сюжетная и стилистическая простота делают «Базиля» крепкой беллетристикой, типичной повестью для юношества (недаром книга и выходила в издательстве «Молодая гвардия»). Лишь четыре вставных новеллы придают повести некий композиционный колорит, но, в общем, не выходят за пределы изначальной схемы.
Несчастная судьба крепостного архитектора, его обмана и гибели, связана со строительством Исаакиевского собора, что дает основание включить повесть в круг петербургской прозы. Но этот культурный фон не прописан, не имеет самостоятельного места в сюжете.
«Средний проспект» Мих. Слонимского (1927) — еще одно явление петербургской прозы. Самый «правый» из «Серапионовых братьев», начавший с основанных на личном опыте военных рассказов, Слонимский к рубежу двадцатых-тридцатых годов опубликовал уже десяток книг и даже четырехтомное собрание сочинений.
Повесть Слонимского (в первом издании она даже носила гордый подзаголовок роман) принадлежит другому влиятельному течению в русской прозе двадцатых годов, которое учитель серапионов Замятин предлагал называть неореализмом (в повести можно отыскать и некоторые прямые переклички с замятинским «Наводнением»). В основе метода — «генеральная традиция» русской психологической прозы (больше всего в повести, конечно, достоевщины), но обогащенная опытом прозы орнаментальной, расцвеченная неожиданными деталями и парадоксами, приобретающая то отстраненно-иронический, то притчевый характер.
Действие повести развертывается в послереволюционном (нэповском, — писали советские критики) Ленинграде. Но соседства университета с его факультетом чудаков, спорами о будущем и стремлением к небу здесь совершенно не чувствуется. В повести Слонимского течет иная, не совпадающая с новой, жизнь — без смысла, без видимой цели: торговля, контрабанда, старые жены и молодые любовницы, мелкие бытовые предательства близких, покупка на аукционе вожделенных шелковых чулок и подсыпание в чай для крепости соды.
Слонимский находит на Васильевском острове городок Окуров, который пережил все катаклизмы, включая революцию. Этот городок в столице живет по своим законам и не отпускает своих выкормышей.
После революции их вроде бы разносит по разным полюсам. «С людьми, вышедшими оттуда, с Малых и Средних проспектов Петербурга, приходилось ему иметь дело, но уже в качестве следователя, а не товарища детских игр, — размышляет следователь Широков. — Он знал и понимал этих людей, и это очень помогало ему при допросах в разборе дел, которые он вел. И теперь он спокойно уже арестовывал людей, среди которых, может быть, были те, с кем он некогда катался вместе на коньках, устраивал битвы во дворах Васильевского острова, приучался, тайком от родителей, курить и гулять с девицами».
Но над всеми нависает тяжесть общей судьбы. «Я вырос на Среднем проспекте, и надо сознаться, много во мне еще от этого Среднего проспекта. Я уж с этим так и помру — поздно мне выправиться. Это уж новые люди вырастут без всего этого», — признается позднее тот же герой в исповедальном ночном разговоре.
Начиная жизнь прислугой в благородном семействе хозяйки кинематографа одна из героинь, в конце концов, оказывается в той же роли у ее сына. Начинаясь со смерти девочки-воспитанницы еще до всего, в шестнадцатом году, повесть кончается сыноубийством в двадцать четвертом.
Слонимский и позднее будет сочинять больше других: путевые очерки, разоблачающие буржуазный Запад, многочисленные рассказы и романы, в том числе трилогию «Инженеры» (1950), «Друзья» (1954), «Ровесники века» (1969), «Книгу воспоминаний» (1964), где одинаково благожелательно будет рассказано о Зощенко и Павленко.
Гор, забросив собственную «Живопись», начнет писать повести о художниках и очерки о народах Севера, выпустит — уже без всяких чудачеств — роман «Университетская набережная» (1960), потом займется фантастикой.
Рахманов прославится как сценарист кинофильма «Депутат Балтики» (1936) и использующей тот же сюжет драмы «Беспокойная старость» (1937). Потом он будет писать биографические повести, пьесы, мемуары. В итоговое избранное (1988) включены «Полнеба» (опасливо отредактированные то ли автором, то ли цензором), ранние очерки и рассказы (поздняя проза представлена всего четырьмя рассказами), две пьесы и большой раздел статей, воспоминаний, заметок из дневника.
Центр тяжести семисотстраничной книги — в самом начале. Ностальгична заметка в разделе «Листки календаря (Из старых записей)»: «23 февраля 84 г. (навеяно сном под утро). Моя ранняя проза — радости для себя. О ней можно сказать словами Стриндберга: „Это слабые полумысли еще незрелого мозга под давлением кровеносных сосудов“. И все же без нее не было бы ничего дальше».
«Больше ничего не помню. Ничего больше и не было» (Бунин. «В одной знакомой улице»).
Лучшее, что они написали, осталось все-таки в тех далеких двадцатых годах. Отрицательная эволюция, увы, — характерная черта большинства советских авторов. Этот путь прошли и Шолохов, и Фадеев, и Федин.
Е. Шварц в «Телефонной книге» (1955–1956) оставил три подробных портрета.
Г. Гор: «Это благообразный, коротко остриженный лысеющий человек в очках, очень, очень, очень культурных пристрастий в области литературы, живописи и вообще искусства. Был за это столь часто и строго наказываем, что вид имеет всегда неуверенный, глаза вопрошающие… Писал формалистично, а теперь пишет просто из жизни народов Севера, которых любит, кроме всего прочего, и за их живопись, к формалистичности которой не придерешься».
«Рахманов Леонид Николаевич — человек худенький, роста — выше среднего, взгляд рассеянный или недоверчивый, смеется, не открывая губ, чтобы скрыть отсутствие зубов. Много знает. Читает не по-литературоведчески, но со страстью, по-писательски, со многими книгами отношения у него личные, словно с людьми… Сколько нерожденных детей. Сколько принужденного молчания. Роковая немота — при остром и точном слухе. Вытоптанное поле, запомнившее, как больно, когда топчут, и решившее, что бесплодие — меньшее из зол. Мы так и не узнаем, как вырос Рахманов в своем нелюдимом городе, как любил, что увидел, запомнил, что запало в душу, что испугало и отняло дар речи. И кто всему этому виной? Бог знает!»