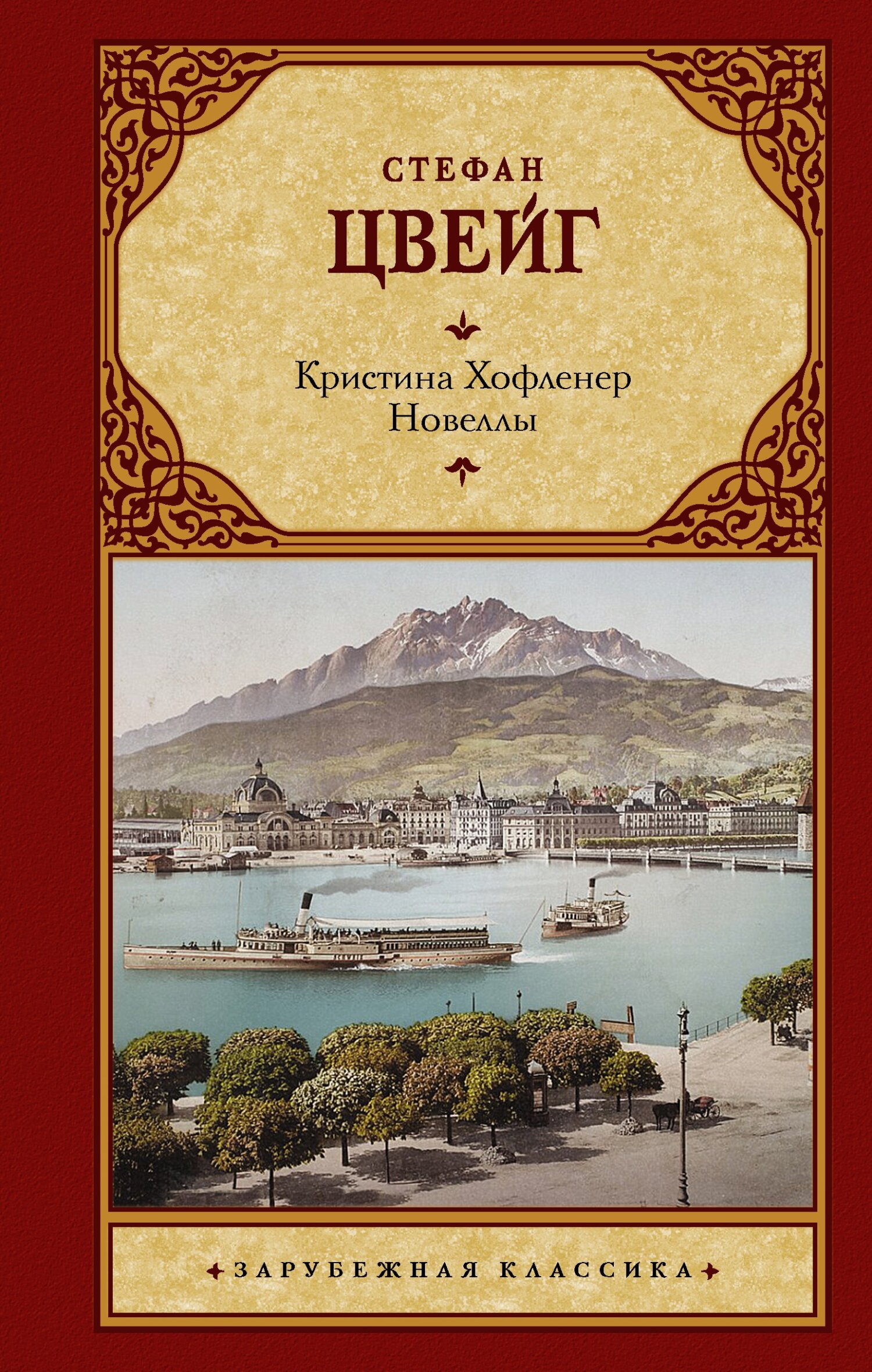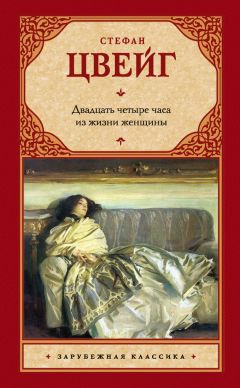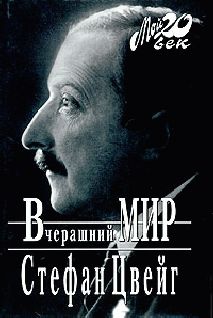женщины были заключены в волшебный сосуд, и теперь, когда его сильно встряхнули, со дна его, из самых недр ее существа, поднялась скопившаяся затаенная страстность и совершенно преобразила ее. Казалось, ледяной покров, сковывавший Кресченцу, внезапно растаял; от прежней неуклюжей медлительности не осталось и следа; движения, походка стали легкими, гибкими. Наэлектризованная радостной вестью, она носилась по комнатам, бегала вверх и вниз по лестнице; не дожидаясь распоряжений, помогала готовиться к отъезду, собственноручно уложила все чемоданы и сама отнесла их в карету. А вечером, когда барон вернулся с вокзала и, отдавая подбежавшей Кресченце трость и пальто, со вздохом облегчения сказал: «Благополучно выпроводил!» – произошло нечто небывалое: вокруг плотно сжатого рта Кресченцы, никогда доселе не смеявшейся, началось какое-то странное подергивание, губы скривились, растянулись – и вдруг на ее лице появилась такая беззастенчивая, радостная ухмылка, что барона покоробило, и он молча, стыдясь своей неуместной откровенности, ушел к себе в комнату.
Но эта мимолетная неловкость быстро исчезла, и уже в ближайшие дни оба они, господин и служанка, с полным единодушием наслаждались упоительным ощущением неограниченной свободы. Отъезд баронессы разогнал нависшие над всем домом грозовые тучи; счастливый супруг, избавленный от тяжелой обязанности давать отчет в своих поступках, в первый же вечер пришел домой очень поздно, и молчаливая услужливость Кресченцы явилась благодатным отдыхом после слишком многоречивого приема, который обычно оказывала ему жена. Кресченца, в свою очередь, с неистовым рвением хлопотала по хозяйству: вставала на рассвете, до блеска начищала дверные и оконные ручки, как одержимая скребла и мыла, изобретала необыкновенно лакомые блюда, и уже в первый день, за обедом, барон с удивлением увидел, что для него одного выложено самое массивное столовое серебро, которое вынималось из буфета только в особенно торжественных случаях. Вообще говоря, барон не отличался внимательным отношением к окружающим, но и он не мог не заметить заботливой, почти чуткой предупредительности этого странного создания; и так как по натуре он был человек добродушный, то и не скупился на похвалы. Он с видимым удовольствием отдавал должное ее искусной стряпне, время от времени обращался к ней с приветливым словом, а когда однажды утром, в день именин барона, на столе появился торт с его инициалами и обсахаренным гербом, он весело засмеялся и сказал:
– Да ты меня совсем избалуешь, Ченци! А что же со мной будет, если, упаси бог, прикатит моя жена?
Однако барон все же выдерживал характер и не сразу дал себе полную волю. Но затем, угадав по многим признакам, что Кресченца его не выдаст, он завел в своем доме прежние холостяцкие порядки. На четвертый день своего соломенного вдовства он позвал к себе Кресченцу и без долгих объяснений невозмутимым тоном распорядился, чтобы она вечером подала холодный ужин, поставила два прибора, а сама ложилась спать – остальное он все сделает без нее. Кресченца выслушала его молча, не моргнув глазом; ничто не указывало на то, что она поняла истинный смысл его слов. Но очень скоро барон убедился, что Кресченца отлично знала, что имел в виду ее хозяин, ибо, когда он поздно вечером вернулся из театра в обществе молоденькой ученицы оперной студии, не только стол был изысканно сервирован и украшен цветами, но и в спальне обе кровати оказались приготовленными на ночь, и юную посетительницу ждали домашние туфли и шелковый халат баронессы. Вырвавшийся на свободу супруг невольно расхохотался, увидев столь ревностное усердие своей кухарки; всякое стеснение перед этой преданной соучастницей отпало само собой, и уже на другое утро он вызвал ее звонком, чтобы она помогла одеться даме его сердца, чем окончательно скрепил их молчаливое соглашение.
Тогда же Кресченца получила новое имя. Веселая подруга барона, которая как раз в те дни разучивала партию донны Эльвиры и в шутку величала возлюбленного Дон Жуаном, однажды сказала ему:
– Позови-ка свою Лепореллу! – Это рассмешило барона – испанское имя никак не подходило к сухопарой тирольке, – и отныне он иначе не называл ее, как Лепорелла. Кресченца, впервые услышав непривычное имя, с недоумением подняла глаза, но, пленившись его благозвучием, приняла прозвище, которым ее наделили, с гордостью, словно ей пожаловали почетное звание: каждый раз, когда барон весело кричал ей: «Лепорелла!» – ее узкие губы раздвигались, открывая ряд желтых лошадиных зубов, и она подобострастно, словно виляющая хвостом собака, подходила к своему повелителю, чтобы выслушать его волю.
Имя было дано в шутку; но будущая примадонна и не подозревала, как безошибочно метко она окрестила служанку барона и как поразительно точно имя «Лепорелла» определяло это странное создание, ибо не знавшая любви, высохшая старая дева, подобно наперснику Дон Жуана, находила какую-то непонятную прелесть в похождениях своего господина. Радовалась ли она тому, что каждое утро видела постель ненавистной хозяйки опозоренной то одной, то другой случайной гостьей, или в ней самой просыпались тайные желания, но эта набожная, неприступная девственница с какой-то неистово пламенной готовностью помогала барону в его любовных проказах. Сама она, измотанная десятилетиями тяжелого труда, давно стала существом бесполым и теперь грелась у чужого огня, с вожделением сводни провожая взглядом до дверей спальни часто сменявшихся посетительниц: точно едкая протрава, действовала на ее дремлющее сознание эта пряная атмосфера, это приобщение к любовным интригам барона. Кресченца поистине превратилась в Лепореллу и стала такой же расторопной, бойкой и сметливой, как ее жизнерадостная тезка; в ней появились совсем новые, неожиданные черты – словно они взросли в жаркой теплице ревностного соучастия, – какая-то хитрость, лукавство, находчивость, что-то пронырливое, настороженное и бесшабашное. Она подслушивала у дверей, подглядывала в замочную скважину, шныряла по комнатам, шарила в кроватях; почуяв новую дичь, вихрем носилась вверх и вниз по лестнице, и мало-помалу острое любопытство, неусыпное, жадное внимание преобразили бесчувственный истукан, каким она казалась, в подобие живого человека. К величайшему удивлению соседей, Кресченца вдруг стала общительной; она болтала с горничными, неуклюже заигрывала с почтальоном, на рынке вступала в разговор с торговками, и однажды вечером, когда во дворе уже погасли фонари, прислуга в доме напротив услышала странное мурлыканье, доносившееся из обычно безмолвного окна: неумело, скрипучим голосом Кресченца напевала одну из тех песенок, которые вечерами поют тирольки на альпийских пастбищах; нестройно, тяжело, точно спотыкаясь, вырывалась бесхитростная мелодия из непривычных уст, и все же в ней чувствовалось что-то далекое и трогательное. Впервые со времени своего детства Кресченца пыталась петь, и эти корявые звуки, с трудом пробивавшиеся к свету из мрака загубленных лет, невольно хватали за душу.
Барон – нечаянный виновник этого чудесного превращения меньше всех замечал перемену в Кресченце, ибо кто же