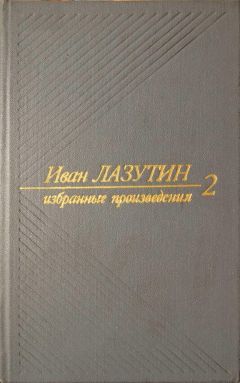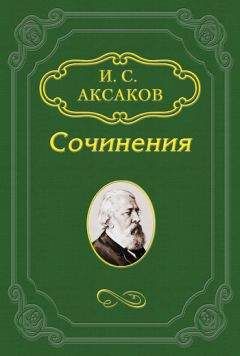Закурив вторую папиросу, Николай помолчал и, зябко подернув плечами, продолжал:
— Как-то раз я возвращался с работы и у самого подъезда столкнулся с Властовским. Было уже около девяти часов вечера, лил дождь… Он стоял с поднятым воротником, вымокший до последней нитки, небритый и изрядно выпивший. Каким угодно я мог себе представить Властовского, но таким, каким я увидел его в тот вечер, даже трудно было вообразить. От прежнего, гордого и надменного Властовского не осталось и следа. Он плакал… Плакал, как только может плакать bли совсем осиротевший человек, или опустившийся алкоголик…
Больше он не стал появляться ни у школы, ни на детской площадке во дворе. А в феврале, это было четырнадцатого числа, утром, дворничиха собралась подмести снег с детского катка. Вошла в сарайчик, где у нее хранились метла, скребки и всякая рухлядь, и увидела там человека. Ои сидел на перевернутом ведре с поднятым воротником, втянув голову в плечи… А через минуту дворничиха с диким криком выскочила из сарая и стала звать постового милиционера. В это время я как раз вышел из подъезда. Завидел толпу, полюбопытствовал, что случилось. В окоченевшем трупе я узнал Властовского. Молодая дворничиха, охая и заикаясь, рассказывала участковому милиционеру, что этот «пьяный гражданин» весь вечер ходил по двору и все посматривал на седьмой подъезд, кого-то поджидал.
Николай затушил папиросу и с тоской посмотрел на меня.
— Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать тебе о Властовском. Добавить могу только то, что у него остался дневник. Он вел его аккуратно. Несколько толстых блокнотов. Сейчас они у Инги. Это скорбный человеческий документ, наглядная диаграмма изломанной души. Когда я читал исповедь Властовского, то видел человека, который приехал в Москву, как бальзаковский Растиньяк: во что бы то ни стало завоевать Париж!.. А кончил тем, что понял наконец: все его наполеоновские карты биты, а личная жизнь исковеркана. Встать на ноги и начать все снова не хватило сил, тоску стал топить в вине…
Глядя куда-то вдаль, поверх макушек сосен, Николай умолк. Потрясенный таким печальным концом Властовского, я спросил:
— А мать? Как она пережила его смерть? Ведь он у нее, кажется, единственный сын?
— Она приезжала хоронить. Останавливалась у yас. Удивительной души человек. Дети ее очень полюбили.
На этом наш разговор о Властовском оборвался. А когда вошла Инга, то мы сделали вид, что болтали о мелочах.
Провожали меня Снегиревы, как и полагается провожать дорогого гостя, всей семьей, дождавшись, когда тронется поезд, чтобы помахать рукой вслед уплывающему вагону.
Над головой моей, в купе, в такт упругим вагонным толчкам покачивалась авоська, в которой розовела целлулоидная кукла, придавленная плюшевым зайцем. Это подарки моей дочурке от Наташи и Аленки. Игорь посылал Сергуну стандартную посылку для авиамоделей, состоявшую из сосновых реек, липовых брусков, бамбуковых палок, резинки, клея, чертежей.
Перестав обращать внимание на монотонный храп соседа, я стал вспоминать студенческое общежитие на Стромынке, Ингу, гордого и высокомерного Властовского, оторопевшее лицо Николая, когда его поздравляли с тройней заведующий родильным домом, акушерка и медицинские сестры…
Под чугунную музыку колес мне мерещился «Танец маленьких лебедей». Это танцевали Аленка и Наташа. А между ними, как ясное солнышко, улыбалась мне моя дочурка.
Июль был на исходе. Дождливая погода так надоела и так измучила всех, что не было человека, который не ждал бы солнечных, теплых дней. И хорошие дни наконец наступили. Особенно нетерпеливо ждала этих дней Елизавета Семеновна. Своему супругу Сергею Константиновичу, полковнику в отставке, она утром напомнила, что он собирался съездить в город и купить там бредень и модный купальник для дочери Машеньки. Зачем ей понадобился купальник, не знал не только Сергей Константинович, но не догадывалась и сама Машенька.
«Опять причуды», — подумал Сергей Константинович и стал собираться в город.
— Не понимаю, Лиза, какая муха тебя укусила? Ты прежде не выдумывала таких причуд.
— Подойди сюда!.. — Елизавета Семеновна взяла за руку мужа, подвела к окну и, поднеся к губам указательный палец, дала знак молчать. — Прислушайся…
Сергей Константинович прислушался. Кроме звуков скрипки, которую он слышал по утрам в это время и вечером, он ничего не улавливал. На этот раз из глубины соседнего сада доносилась «Мелодия» Чайковского.
— Кроме скрипки, ничего не слышу.
— Кроме!.. И ты еще смеешь произносить это слово! — Елизавета Семеновна поправила под косынкой седую прядку. — Мне совершенно ясно, что, кроме своих личных занятий, ты ничего не желаешь знать.
— Лиза!.. — попытался было возразить Сергей Константинович, но Елизавета Семеновна не дала ему договорить.
— Не забывай, что у тебя есть дочь, которой уже двадцать один год. Ты об этом когда-нибудь подумал?
Сергей Константинович молчал, пытаясь уразуметь, какая может быть связь между его дочерью и игрой на скрипке в соседнем саду. Но тут же в какое-то мгновение его осенила горькая мысль. Раньше она никогда не приходила ему в голову. Представив себе невысокого, чуть сутуловатого молодого человека, который вторую неделю жил в соседней даче (при встрече он всегда вежливо и застенчиво раскланивался с ним), Сергей Константинович многое начал понимать в поведении жены. И от этой догадки ему стало как-то неловко. Раньше он никогда не задумывался над тем, что настанет день, когда в их дом придет какой-то чужой мужчина и возьмет у них дочь. Единственную дочь… Машеньке уже двадцать один год.
…К вечеру Сергей Константинович привез бредень и модный купальник для Машеньки.
Вечер был тихий и теплый. После дождя звуки особенно раскатисто и гулко раздавались над промытым, посвежевшим лесом.
Поужинав, Сергей Константинович вышел на веранду, достал из шкапчика коробку «Золотого руна» и набил трубку. Это была третья и последняя трубка за день. Не в силах бросить курить совсем, он условился с Елизаветой Семеновной остановиться на трех трубках в день. Курил всегда на веранде, с блаженным видом восседая в плетеном кресле и до конца отдаваясь каждой затяжке.
Посмотрев на часы, прислушался. Каждый вечер в это время в соседнем саду сутуловатый юноша начинал играть на скрипке. Сейчас же, кроме гулких паровозных гудков, доносившихся из-за леса, он ничего не слышал.
«Странно, — подумал он, — никогда в жизни не подозревал, что к музыке можно привыкнуть, как к табаку. Откуда такая притягательная силища? Или все оттого, что, как дикари, живем в лесу и молимся колесу?»
С краев покатой черепичной крыши веранды мерно срывались крупные капли, падали на мокрую песчаную дорожку, образуя в ней неглубокие лунки. Чуть подальше, под окнами кухни, воробьи дрались из-за хлебной корки.
Сергей Константинович глядел на ершистые серые комочки мокрых перьев и грустно улыбался. Чем-то они напоминали ему его детство. Курносый, веснушчатый, с цыпками на ногах, в залатанных штанах, он роется со своими ровесниками в речном песке, где, по слухам, деревенский дурак Саня Говор зарыл золотой клад. Толкая плечами друг друга, ребятишки, стоя на коленях, пыхтят, торопятся, огрубелыми, посиневшими от холодной воды ладошками таскают из оплывающих лунок мокрый песок. Каждому хочется первым найти клад.
Закрыв глаза, Сергей Константинович сидел неподвижно, всем своим существом предавшись той минуте воспоминаний, когда в памяти особенно отчетливо проплывает прожитое. Так он сидел до тех пор, пока из-за кустов черемухи не хлынули на него берущие за душу волны «Ave Maria» Шуберта.
Клонившееся к закату солнце, прохлада после дождя и тонкий аромат «Золотого руна» — все это смешалось во что-то единое, прекрасное. Сергей Константинович в какое-то мгновение остро почувствовал и прелесть земной жизни, и неизбежность приближения ее конца. На седьмом десятке эти мысли обычно стараются отогнать, но, как их ни гони, они все чаще и чаще наведываются.
Сергей Константинович сделал последнюю затяжку, не торопясь затушил трубку и почувствовал сладкое кружение в голове, которое ему стало знакомо с тех пор, как он до минимума сократил свою табачную норму. Это легкое головокружение, которое испытывает всякий давно не куривший заядлый курильщик, было настолько приятно Сергею Константиновичу, что он не заметил, как в соседнем саду снова родились звуки мелодии. Они точно приближались издалека, откуда-то из-за позолоченных закатом облаков, и незаметно росли, становились мягче, проникновеннее.
Сергей Константинович затаил дыхание. Никогда в арии Генделя он не чувствовал столько неразгаданной печали. А скрипка все плакала… Плакала все протяжнее, безнадежнее… В какое-то мгновение ему даже послышалось, что за кустами сирени рыдает существо, которое к нему приходило в воображении в дни его далекой юности…