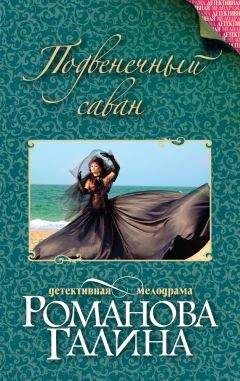И тут ударило. Да так, что Анисья Петровна, да и мы стали как стеклышко, наверное, даже в прямом смысле, потому что такой свет не мог не пронизать насквозь. Хорошо, что Оксанка не проснулась, и Василию Михайловичу было хоть бы что: он в тишине, вслед за вспышкой и ударом грома, произнес, видимо, о спичках: «А, вот они, а я искал». Мы кинулись закрывать: Анисья Петровна трубу, я — форточку. И, видимо, так близка была молния, столько скопилось электричества, что меня ударило в руку, когда схватился за шпингалет. Я даже ощутил, что пальцы стали каменными, что будто кисть вывернуло, но дальше не пошло, потому что я отдернул ее. Свет погас, показалось, что от оживающей кисти летят синие маленькие призраки. Еще вспыхнуло и еще ударило, Анисья Петровна стояла на коленях перед телевизором в переднем углу, а я, увидев дверь открытой, кинулся закрыть, но, вспомнив, что в избе нет Любы, выскочил. И еле догнал ее за распахнутыми воротами.
— Убьет! — кричала она. — Я знаю, убьет, отойди, убьет же из-за меня!
Было похоже, что она не в себе, но уже вся мокрая от упавшей и падающей непрерывной лавиной воды, сквозь которую при вспышках искаженно проступали ее глаза, стала кричать, что ей нагадали гибель от грозы, что она специально кинулась из дому, чтобы из-за нее не убило Оксанку. Люба рвалась, я не пускал. Так и стояли и ждали. Поверив, «что Любе нагадали правду, тем более еще еле — шевеля правой рукой, я думал о детях. Казалось, что мы оглохли, потому что хуже слышали гром, но он и в самом деле отодвигался, уходя на запад. Молнии еще сияли и гасли, но уже не везде, а тоже уходя за громом, сквозь ливень они казались огромными.
— Пойдем, — сказал я. — Еще не сегодня. Пойдем, пожалей себя.
И Люба послушно пошла. В избе горела яркая керосиновая лампа. Васька, назову его теперь так, доставал откуда-то наполненную емкость и миролюбиво предлагал: «Гуднем еще денек».
Но мне хватило впечатлений, и я отказался. Запрещал и Ваське, пугая тем, что утром на работу, а не выйдет — уволят. «Были бы руки, — отвечал он на это, — цепи найдутся». Переодевшись в его рубаху и штаны, привалясь к печи, я полудремал, дожидаясь рассвета, Люба грелась рядом, сушила становящиеся пушистыми волосы и говорила на ухо, что главная причина ее характера, ее неудавшейся жизни вовсе не в цыганке и не в гадании. «Сказать в чем?
Я Валере сказала… Все равно скажу. Я когда была на вы-росте, девчонки про мальчишек без конца говорили, а я плевала! Отчаянная была. И вот раз и случилось — меня па гада затащили в сарай и давай щекотать. Ведь этим можно убить. Я потом читала книгу «Человек, который смеется», так это что, а эти хуже фашистов. Я уж даже не хрипела, тогда испугались, бросили умирать. Я долго заикалась, пером прошло, но от парней шарахалась. А уж когда меня мамочка выпихнула за перестарка, а он как прикоснулся, как все во мне стиснулось! Ой, чего я перенесла! Сказать? Скажу: меня с тех пор каждый раз будто насиловали, я и пила-то, чтоб боль не чувствовать, чтоб кожа деревенела. И вот — Валера! Я уже знала, что его люблю, но ты представь этот ужас, когда я прикосновения ждала. Думала, если будет та же реакция, утоплюсь! Чем я хуже Катерины из «Грозы» Островского? Но тут-то все и решилось. Он говорит: «Ну что вся прямо, тебе холодно?» А я уж зубами стучу и челюсть рукой снизу подтыкаю, как покойница. И вот он коснулся!..»
Тут загремел отодвигаемый стул, это Васька вставал для тоста.
— Аниська! — крикнул он.
Испуганная Анисья Петровна проснулась, вскочила и села на табурет по стойке «смирно». Васька велел сесть и нам. Я сел напротив него. Он, вглядевшись и, видимо, введенный в недоумение своей рубахой, которая была на мне, велел убрать зеркало. Я пересел.
— Этот тост я произнесу не хуже никого, и ради этого тоста я встану. — Он помолчал, посмотрел вниз и добавил: — Потому что я уже стою… Выпьем за правую грудь!
Анисья Петровна покорно выпила, а Люба, пользуясь моим присутствием, спросила насмешливо, когда же пить за левую. Васька, не обидевшись, объяснил, что пить за правую грудь это все равно что за правду. И так треснул себя кулаком по груди, что рухнул. Анисья Петровна разула его, мы перенесли его на кровать. Сама же Анисья Петровна на глазах развеселилась, и все мы стали вспоминать недавнюю грозу. Укрыли потеплее Оксанку и отворили форточки. Ту, ударившую меня, я открывал боязливо, но она вела себя усмиренно. Теперь уже Анисья Петровна предлагала выпить и, не знаю, то ли врала, то ли в самом деле бывают такие чудеса, говорила, что во время грозы телевизор включился сам и по нему передавали оперетку.
Вскоре Анисья свалилась, а Люба все-таки договорила:
«И вот он коснулся меня, и будто из меня все электричество вывел в секунду. Я от радости как вскрикну, а он руку отдернул: ты что, говорит, мы не в лесу, А потом-то! Он рукой по мне ведет, я вся замираю и вокруг его руки как змея обкручиваюсь…»
Одежда высохла, я стал переодеваться. Окна проступили светлыми квадратами на стене. Оксанка заплакала во сне, и Люба подсела к ней, успокоила, что-то шепча, и сама уснула сидя, склонившись над дочерью. Я немного прибрал на столе, спрятав питье от Васьки. Поставил ему к изголовью стакан с расплавленным, застывшим сверху салом — его дневной рацион. Оставил Любе записку.
В гостинице пришлось стучать, так как и было написано над кнопкой звонка: «Не работает — стучите».
— Ну и гроза! — говорила дежурная, не удивляясь моему неурочному появлению. — Говорят, пожар в Коромыслове. Ох и молнии же были страшенные! А у меня там крестная, и связь оборвало.
Уставший, я пришел в номер и пожалел, что, уходя днем, оставил окно открытым. На пол нахлестало воды. Взялся за тряпку. И тут только дошло — Коромыслово! Боже мой!
В пожарной, как водится, ничего толком не знали. Это уже мне дежурная сказала. Она вовсю названивала, узнавая о пожаре.
— На блок-пост в сплавную позвоню, — решила она. — Это на Двине, напротив Коромыслова. — И стала добиваться соединения.
Радио передавало утреннюю программу, и вовсю орал бодрый голос: «Нам счастье досталось не с миру по нитке», а спустя какое-то время: «Все это из нашей истории сроки…» Надо ли это записывать? Какая разница, какая музыка звучала, главное было в пожаре, но помню отчетливо, что привязалась ко мне песня, не эта, а другая, тоже из утреннего концерта: «И пусть уча-щается наш пульс!» — вот эта, и она как наваждение печатала свой ритм под ногу, когда я бежал по улице к причалу. И было отчего участиться — дежурной сказали с блок-поста, что горело не Коромыслово, а недалеко, ударило якобы в сосну. Я сразу решил, что это никакая не молния, что это Валерий сотворил над собой. Может быть, какие-то посторонние слова привязываются, чтобы не всего оглушило страхом, чтобы сохраненный рассудок как-то сам принял какое-то решение. И еще какой-то его частью думалось, что все это не зря — и эта порван гроза, и эта ночь, и пропавший вчерашний день, ужас, ужас, я, как я, дурак, как я мог не понять недоговоренность Любы о Валере: «Уж кто пытался с собой покончить, все равно покончит». Не зря, не зря он вчера не велел ей приходить).
Я думал о лодке, и тут снова привязалась фраза, но уже не песенная: «И перевозчик беззаботный его за гривенник охотно чрез волны страшные везет». Это было близко к жизни, даже гривенника не нужно было, просто повезло, услышал лодочный мотор и подбежал к берегу: внизу рыжий парень что-то слушал в его работе. Заглушил. Отдышавшись, я спустился и спросил, не в сторону ли он Коромыслова. «Можно и туда». Я вспомнил вдруг, что сорвался из гостиницы в одной куртке, что деньги не взял, и сказал, что отдам потом. Хотя вдруг в куртке нашлась рублевая монета. «Возьми пока. Мало, конечно». — «Прокурор добавит», — ответил парень. Видя, что я волнуюсь, он объяснил, что сейчас я все равно ни на чем в Коромыслово не попаду, а сам он никак не найдет, почему соскальзывает сцепление. Сказал и как раз нашел. «Шплинт, сволочь, спаскудил». Хитро подмигнув, парень достал из кармана женскую заколку. «Выдержит?» — «Куда она денется! У нас все на шпильках!» Он делал и объяснял, что он в безвыходном положении, что «закосил ночку», то есть ночевал не дома, что ему сейчас нужна «отмазка», то есть оправдание, где был, что только рыбалка спасет, но что нужна хоть крохотная добыча. «Вот и рублевку твою не взял бы, а если с полчаса побросаю и пустыря дерну, то хоть у мужиков перехвачу».
И вот он завел мотор. Я сел лицом к нему, спиной к движению, и парень, рывками увеличивая скорость, заставляя меня каждый раз ему кланяться, разогнал лодку до того, что она от восторга задрала нос. Мало того, он еще и такой фокус проделывал — не обходил плывущие бревна и льдины, иногда очень немаленькие, а шел на них и за секунду перед ними резко нажимал на рукоять мотора, выхватывая тем самым винт из воды, и снизу поддавало. Лодка прыгала на льдинах и бревнах так, будто была не, лодка, а телега. «Орел!» — думал я, каждый раз напрягаясь от ожидания удара.