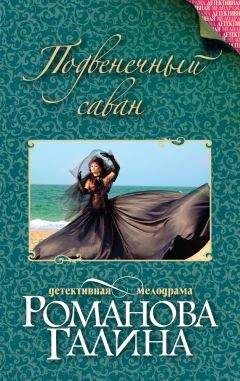— Не надо.
— И правда. — Люба ссутулилась, потом весело засмеялась, откинувшись: — Ну, как Валерик Ваську укротил! Тот явился, видит — чужой мужик, ну что? Конечно, драться. А Валера говорит: «Вот как хорошо, что вы пришли, а то без хозяина не пьется, не поется». Но Васька все равно набыченный. И вдруг Валера встает, да как запел, да ведь как знал, что запеть, Васькину любимую, ведь Васька воевал, завел: «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу…» И вот, Леша миленький, — можно я вас так буду называть? — на меня все, как на магнитофон, записано, все помню поминутно. Как они вместе запели. Да стоя! Да громко! Я смеяться, я в ладоши хлопать! А потом заревела. Вот это бы в кино, я бы сыграла, я как вспомню, меня слезы берут тут же. Мы с Аниской давно, еще до Валеры, решили: пить пьем, но телевизор не пропивать, так по телевизору все намного слабее. А я почему заревела? Сейчас объясню. Не от радости, хоть он такой был красивый на мою погибель, а от жалости такой, что дальше некуда. Реву и вижу — ведь несчастный человек, а притворяется. У меня еще летчик однажды был, но это, конечно, мелкое сравнение, он хвастал опасной профессией, отрыв от земли, говорит, любить, говорит, должна, и улетел, ну и плевать, а Валера живет опасней, мне не понять, то есть понять, но не выразить. Его, знаете, как его надо беречь. О, я смогу!
Жарило вовсю. Запах смолы из огромной ямы становился удушающим, и мы перешли в тень цветущей рябины. Нехорошее предчувствие держало меня, и я сказал его Любе.
— Давайте, Люба, подожжем все это. Близко нет построек, большая влажность, ветра нет, все прогорит за полчаса.
Но Люба отказалась под тем предлогом, что завтра будет не поздно, что завтра мы сделаем это с Валерием, что еще выпьем у такого костерища.
— Ну, это вы выпьете, мужчинам можно. А я нет! Нет, нет и нет! Ни грамма! Ведь я беременна! — сказала она с гордостью и левой рукой тронула впалый живот. — Валерик, говорю, миленький ты мой, не бери меня с собой, но что хочешь делай, хоть сейчас бросай, хоть потом, а я буду рожать. И Оксанке братик, и мне спасение. Ох, Леша, ты бы знал, как он молчит. Сказала ему, на кухню убежала, боюсь обратно выйти, вдруг на аборт пошлет… Слышу — идет. Подошел, волосы погладил, говорит: назови Митенькой.
В воздухе сгущалось ощущение тяжести, стало душно, я, спросясь, снял рубаху. Люба покосилась:
— Как и Валера, сплошная сметана. Я ему говорю: ты хоть подрумянься. Он: я же белый человек. Да что ж это я все не по порядку? Да-а, беречь! Он, кстати, жену любит. И правильно. Он честный человек: раз сошелся, надо жить. Детей тем более родила. У него трое? Он не уточнял кто именно, да мне и неважно, а любить ее надо: попробуй-ка с ним поживи. А если она деньги тянет или еще что, тоже можно понять — он обречен, а ей — жить. Живут они — могу представить: зад об зад, кто дальше отлетит.
— Как это, он обречен?
— Да не по болезни, он здоровый! И я здоровая, сколько повторять? Я о другом. Он говорит: я, Любашка, изработался, ничего, говорит, не хочу, только, говорит, и остается, что каменные плиты и берестяные надписи сличать. А и это, говорит, никому не нужно. А он о вас говорил, я ему хитро подсунула вопросик: и Алексею не нужно? Он засмеялся: нужно. Я тут же: и мне нужно. Он смеется: «Нас уже трое».
Вскоре, рассчитав по времени, мы спускались вниз, к причалу. Завиднелись избы Коромыслова. Люба, говорившая без умолку и способная утомить кого» угодно, умолкла… -
Беспредельная даль, вблизи зеленая от молодой листвы, озаренная сиянием реки, дальше дымчато-сизая и голубая перед небом, напомнила вдруг степи за далеким Митридатом перед катакомбами. Я спросил Любу, говорил ли Валерий о Керчи.
— Еще как! Говорил: вот бы поехать. А я ответила: почему «вот бы»? Возьмем да и поедем. Денег нет, я проводницей наймусь.
Мы пришли на пристань, были одни на ней, отошли в сторонку, сидели на бревнах. Люба полоскала в воде свои длинные ноги и говорила о Валерии. И все время перебивала себя возгласом:
— И опять я, дура, не по порядку! — Обращала ко мне счастливое лицо, по которому бегали отраженные от воды блики солнца: — Надо же рассказать, как я утром к Аниске прибежала. А еще и вечером, когда он был, мне так было стыдно, что у нас грязно, неприбрано, один телевизор, и тот, как дурак, в углу неметеном. Вот я утром примчалась, про ночь я вам умалчиваю, прибежала и ужаснулась: грязища!
А ведь жила! Оксанку к соседке — и как начала все мыть-мыть, убирать, чистить, он к обеду обещался прийти и пришел, а я еще до обеда успела в баню сбегать и причесаться. И он все заметил. Разулся, прошел в переднюю. Аниски не было, с похмелья в чулане страдала, помолчал и спросил: «Не жалеешь?» — «Что вы!» — я говорю, а ведь, а ведь только что ночь была, и я его на «ты» называла.
Но это не та ночь, от которой сыночек, нет, та была волшебной. У вас были женщины? Ну неважно, у него были.
Вы как-нибудь спросите его, кто всех лучше, только я знаю, что я. Мне не описать, это — волна. Я очнусь и не знаю, где я. А были мы в мастерской скульптора, там все белым закрыто и так жутко! Вечером, ночью то есть, когда мы пришли, Валера для юмора две-три простыни снял, а я съежилась, на меня смотрят… Сейчас сколько? — вдруг встрепенулась Люба.
— Шесть, седьмой. Целый день мы с вами.
— Вообще-то сегодня можно было к нему пойти, — сказала Люба, — это уж я так вам соврала, что неприемный день, вас бы пустили. Я только не хотела, чтобы вы пошли без меня, а мне Валера сегодня не велел приходить. Он чего-то последние дни сильно захандрюкал, чего ни принесу, не ест, товарищам отдает. Все молчит да усмехается. Нет, Леша, не дергайтесь, сейчас уж действительно поздно. Не пустят!
— Как ты плохо сделала! — расстроился я.
— Завтра близко, — успокоила Люба. — А то, что он велел, я выполняю по пунктам. Пить — отрезано! У меня натуры хватит. А кто лечится от пьянства, тот еще сильнее запьет, это жизнью проверено. Думаете, я бабку Аниску осуждаю? Или Ваську? Ну, перестанут, и дальше что? Телевизор смотреть? Мне-то хоть Оксанку водить, да ребенка ждать, а им — кранты. И то отдушина — Оксанка! Ой, смех, вы бы посмотрели, как она из Валеркиного хрусталя молоко пьет. Это ведь целое кино, как ее обратно добывала. Вначале давали на немного, потом уж только насовсем.
— А как Валерий попал в ЛТП?
— Он шел, я думаю, ко мне, заблудился и упал. Пьяный был. Подобрали. Фамилию спросили. Он говорит: пишите — Иван Непомнящий. Забрали. Паспорта нет. А велик ли город, пьяным уж видели, замели. Были с ним деньги или нет, не знаю, он дал мне ключ от мастерской, сказал, где что взять и куда ключ положить, я там больше не бывала. А деньги трачу только на девочку, иногда только бабке Аниске краснухи куплю.
Подошел теплоход. Сели. Мужчины на падубе говорили, что чайки летают, что это примета верная — к рыбе. Солнце садилось, самый светлый его луч держал теплоход как на веревке. Люба запечалилась. Ей показалось, что один из пассажиров — мужчина в брезентовой робе — ее знает, так как приглядывался, и она вновь стала ругать предыдущих, до Валеры, знакомых. «Это же даже не жеребцы, это боровы, кабаны это, свиньи это. Они хрюкают! Они думают только о себе, какое нм дело, хочу ли я. Дело же в нежности! Валера проведет рукой — я таяла, я горела!»
И снова говорила с ненавистью о Лине:
— Я этой рванине морду бы починила, наладила бы ей облицовку. Вот зараза так зараза! До чего парня довела! Ух, я бы ей! Вы ее знаете?
— Нет.
— Красивая, конечно, — сказала Люба, взглянув на свои ладони. — Только теперь ей ничего не светит. Он жену любит. У него хорошая жена?
— Хорошая, — ответил я и почему-то невольно выдал: — Они сейчас в разводе.
Новость эта Любу поразила. У нее вырвалось вначале:
— А он не сказал. Жениться на мне, значит, не хочет? — Потом она пригорюнилась. — Ну и что, — сказала она, — и не женись… А этой гадине я найду время харю начистить. Он любит жену — и правильно. Пусть обратно сойдутся. Легко ли, детей родила! Голос крови. А мучиться-то как. Я вот теперь в родилке лягу на стол, так хоть буду знать, ради чего мучаюсь, а Оксанку только от жалости пожалела.
Потом она говорила, что спланировала так: пусть Валерий ездит на зиму к семье и в свою мастерскую. И на заводы. А летом сюда. «Я поняла, как его надо беречь. Надо так, чтобы он ни о чем не думал, только о работе. Я бы ему все стирала, готовила, по магазинам бы бегала, у меня все продавцы знакомые, теперь-то уж гнать не будут, а он бы работал. Вы же видели, какая у него работа. Он на вторую ночь показал — я ужаснулась. Взял карандаш, это в мастерской-то, по памяти стал домик рисовать и мою фигуру намеком на крыльце. Так здорово! А он взял и порвал. Снова! Снова порвал. Боже мой, говорю ему, куда еще лучше? Эта скотина образованная, наверное, его в работе заездила. Я их знаю, вот поставьте на выбор, я ее сразу угадаю. Вся больная, конечно, вся дорогая, они только в постели здоровые, тьфу, подстилка портяночная! Все-таки не дала один рисунок порвать. Спрячь, говорит, никому не показывай. Вот». Она полезла рукой под кофточку, вытащила обернутый целлофаном листок. Линии рисунка вздрагивали, особенно контур.