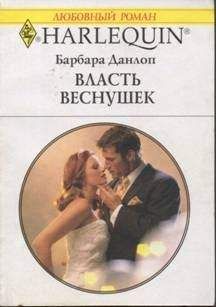-- Ты прав, -- говорит Вероника, -- они прекрасно обходятся без нас.
-- Компания уже сбилась, сама знаешь, как это бывает. Новеньких всегда неохотно принимают. Вспомни, когда мы...
-- Нет, дело не в том, что мы новенькие, нас бы во как приняли, если бы мы были их возраста.
-- Да они ведь дети.
-- Не такие уж дети. Старшим из них не меньше восемнадцати. Но нам по двадцать четыре, и мы женаты. Этого достаточно, чтобы считать нас стариками.
Она задумалась над тем, что сказала.
-- На меня это произвело сильное впечатление, -- говорит она взволнованно. -- Ничего подобного я еще не переживала.
-- К этому привыкаешь...
-- Ты думаешь?
-- Послушай, дорогая, не будем преувеличивать! Мы еще очень молоды. Нам ведь нет и двадцати пяти, понимаешь? Вся жизнь впереди.
-- Да, но для них мы уже взрослые.
-- Конечно, дорогая, мы и в самом деле взрослые. Ты этого не знала?
-- Я это поняла только что.
Несколько секунд они молчат. Перед ними тропинка, за ней кустарник, дальше дюны и океан, который урчит и сверкает на солнце. День удивительно ясный, прозрачный, воздух напоен светом и насыщен острым запахом йода. Пенящиеся волны издали напоминают белые стежки. Свежее дыхание открытого моря холодит щеки. Фигурки велосипедистов на дороге все уменьшаются -мелькают между деревьями на опушке леса.
Вероника провожает их взглядом, она снимает темные очки и хмурит брови. Жиль в упор разглядывает ее профиль обиженной девочки: рот, длинные загнутые ресницы, маленькое ухо, розовое, как раковинка... Он касается уха губами. Вероника ежится.
-- Щекотно... Жиль!
Он не настаивает. Она снова надевает очки, потом открывает сумочку, вынимает носовой платок и вытирает ладони.
-- Взрослые, -- говорит она задумчиво. -- Как твои родители или как мои... Странно.
Вдруг она утыкается в плечо Жиля.
-- Скажи, дорогой, ведь нам не придется вести такую жизнь, как им, правда?
-- Что ты имеешь в виду?
-- Ну, жить как твои родители или даже как мои. Мы будем жить более интересно, более весело?
-- Да, наверно...
Его голос звучит хрипловато.
-- Не наверно. Надо быть уверенным! Очень уж печально думать, что впереди нас ожидает такая вот жизнь, как у них.
-- Их жизнь не была несчастливой...
-- Да... Но и увлекательной она тоже не была. Я думаю, вряд ли стоит жить, чтобы прожить такую вот жизнь.
Жиль молчит. Она порывисто оборачивается к нему -- так бывает всегда, когда она вдруг понимает, что была, наверно, слишком грубой, что могла его обидеть. Она целует Жиля.
-- Я говорю и о моих родителях тоже, поверь, -- шепчет она, как бы извиняясь. -- Твои отец и мать просто прелесть какие, но, откровенно говоря, дорогой, они как-то отстали от времени... Они почти нигде не бывают, у них мало знакомых. В общем, я считаю, что они живут какой-то... как бы это сказать... заторможенной, что ли, жизнью. И у нас дома то же самое. Ну сколько лет твоей маме? Пятьдесят два -- пятьдесят три года? В наше время пятидесятилетняя женщина должна была бы еще... Ну, я не знаю, заботиться о своей внешности, что ли, бывать на людях, интересоваться тем, что происходит в мире... А твоя мама... создается впечатление, что она живет только для мужа и детей... Такая преданность, такое самоотречение, конечно, прекрасны, и возможно даже, что она этим вполне счастлива, но...
-- Мне кажется, что она и в самом деле вполне счастлива.
-- ...Но все же жизнь -- это нечто другое, она не должна свестись исключительно к семье, к хозяйству... Во всяком случае, в наши дни не должна! И потом, это я уже совсем не могу понять, честное слово, решительно не могу... как вы только терпите эту зануду, вашу тетю Мирей?
-- Привыкли. Она так давно живет с нами. Я тебе уже рассказывал, как мы...
-- Знаю, знаю. Вы взяли ее к себе из милосердия, это прекрасно, не спорю, но все же, согласись, она действует на нервы, она всем в тягость. И вы покорно ее терпите... Клянусь, я считаю твою мать просто святой!
-- У тети Мирей есть и хорошие черты.
-- Да, конечно, как у всех. Никто не бывает ни целиком черненьким, ни целиком беленьким. Но все же приносить такую жертву уже столько лет! Я говорю о твоих родителях. И во имя чего только приносится эта жертва, разреши спросить?.. Знаешь, дорогой, давай не будем говорить об этом, я вижу, тебе это неприятно.
-- Да нет, что ты!
-- Нет, я прекрасно это вижу. Хорошо, не будем больше об этом говорить. Я хотела сказать только одно: я желаю себе, я желаю нам другой жизни, чем у вас или у нас. Ты согласен?
-- Ну, конечно, дорогая, согласен.
-- И ты об этом всерьез позаботишься? Как только мы вернемся в Париж?
-- Да...
-- Нам надо прежде всего как-то мило устроиться, организовать такой интерьер, который нам нравился бы. Это очень важно. И квартирку надо подыскать очень быстро, да, дорогой?
-- Какая ты нетерпеливая, -- говорит он и целует ее. Он бережно берет в ладони это красивое встревоженное лицо и влюбленно на него смотрит.
-- Надо быть нетерпеливой, Жиль. Время летит так быстро... И знаешь, нам дана только одна жизнь.
Вдалеке, там, где дорога углубляется в лес, уже давным-давно скрылись из виду велосипедисты.
Вернувшись в Париж, мы прожили несколько дней у ее родителей, ровно столько, сколько надо было, чтобы найти квартирку "нашей мечты".
Это оказалось совсем нелегким делом. Что до меня, то я был бы доволен любым жильем, лишь бы жить там с ней. Тогда (да, впрочем, и теперь) моя потребность в комфорте (не говоря уже о роскоши) была невелика. Меня не волновали такого рода вещи. Меня волновали лица, голоса, присутствие тех или иных людей, "нравственный климат", пейзажи, споры, произведения искусства, какая-то неожиданная страница в книге. Но я был решительно равнодушен к обивочным тканям или керамическим плиткам для ванной. Я знаю, это большой пробел. Ванная комната тоже может быть произведением искусства, но я не хотел вкалывать лишние десять часов в неделю, чтобы приобрести самую новомодную ванную. Два последних года до женитьбы я жил в комнате для прислуги, наверно безобразной, нимало не пытаясь хоть немножко ее украсить, как делали большинство моих товарищей по факультету, умелость и изобретательность которых по этой части вызывали мое изумление. Они переклеивали обои, перекрашивали двери и окна, все лакировали и полировали. Они часами шуровали на толкучках и в лавках, где продается всякая металлическая рухлядь, в поисках чего-нибудь забавного, чем можно было бы украсить свою берлогу. Я -- нет. Увы, но тут уж ничего не попишешь -- я не родился с душой художника-декоратора. В этом отношении я был, несомненно, явлением уникальным, потому что большинство мальчишек моего возраста, во всяком случае, все те, кого я знал, придавали огромное значение внешнему виду -- тому, что они называли "оправой" своей жизни. Это относилось также и к одежде. (Свою полную некомпетентность по этой части я уже имел случай отметить.) Когда я слушал их разговоры об убранстве холостой квартирки -предмете их мечты, меня охватывал ужас. Они знали точный оттенок цвета своих будущих занавесок, стиль мебели, форму ламп... Так и подмывало их спросить, не собираются ли они поставить себе швейную машину. И не то чтобы они были женоподобны или глупы, они были, как говорится, продуктами своего времени и одержимо воплощали его мании.
Итак, мы с Вероникой занялись поисками квартиры. Вернее, поисками занялась Вероника, а я сопровождал ее, когда бывал свободен, поскольку я тем временем снова приступил к работе. Агентства, в которые мы обращались, по мнению Вероники, всегда предлагали "нечто непотребное". Квартирки, которые мы смотрели, все без исключения были действительно очень уродливые и к тому же расположены, как правило, в малоприятных районах или в скверных домах. Повторяю еще раз, что до меня, то поначалу я был готов на любой вариант, но отвращение Вероники в конце концов заразило и меня. От старомодного доходного дома, где проживают всякие там мелкие буржуа, Вероника впадала в настоящий транс. "Никогда, никогда я здесь не смогу жить!" Выбор района был тоже очень важен. Естественно, и тут у нее были самые жесткие требования. Речь могла идти только о 5, 6, 7-м районах, да и то об определенной их части. Весь остальной Париж решительно исключался. Но не менее естественным было и то, что квартирные агентства, в которые мы обращались, никогда не посылали нас на эти благословенные улицы. Никогда. Они настойчиво направляли нас за пределы рая -- то на улицу Монж, то в Денфер-Рошеро, то в унылую пустошь вблизи Военной академии. Вероника стонала: "Нет, Жиль, в этом квартале мне будет казаться, что я в ссылке, -- от всего далеко, паршивый транспорт, удручающе уродливо и действует на психику. Здесь у меня через две недели начнется нервная депрессия". В качестве довода она приводила также престижные соображения: "Улица Мутон-Дюверне -- ничего себе адресочек! Нет! Ни за что на свете!" "Шикарными" адресами она считала, например, Университетскую улицу, улицу Сен-Доменик, улицу Гренель. Но об этих вожделенных улицах агентства, казалось, и слыхом не слыхали.