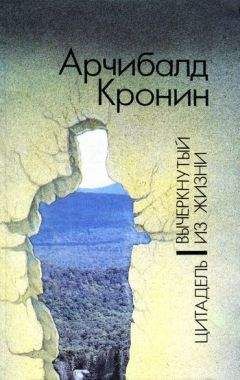вас нет оборудования.
– У меня есть все необходимое.
– Вы не можете этого сделать! – прокричала Сьюзен в третий раз, стиснув руки. – Такой риск, это слишком страшно. Попытка может оказаться роковой. Вину возложат на вас. Как вы не понимаете, в случае провала обвинят вас! Скажут, что вы…
Харви ничего не ответил, но по губам пробежала тень его прежней ироничной усмешки.
– Богом прошу, – зарыдала Сьюзен, – заклинаю вас, попросите о помощи. Я хотела сказать это сотни раз. Никто не мог бы сделать больше, чем вы. Вы были великолепны. Но это такая ответственность, а рядом никого. Как вы не понимаете, если она умрет, скажут, что это вы ее убили.
Она протянула дрожащую руку, пытаясь прикоснуться к его руке. При виде этих усталых, запавших глаз любовь к нему переполнила ее сердце. Она не могла сдержать чувства. Ей хотелось поцеловать эти усталые глаза… хотелось… хотелось… Слезы текли по ее щекам, отчего она стала еще более некрасивой. Но ей было все равно! Впрочем, Харви, казалось, не смотрел на нее.
– Все потеряет смысл для меня, – тяжело уронил он, – если она умрет.
Лицо Сьюзен исказилось, словно от удара. Она отдернула руку и поднесла ее ко лбу, чтобы скрыть слезы. Хлюпнула носом, стиснула дрожащие губы, стараясь справиться с собой. Наконец сказала совершенно другим тоном:
– Если вы собираетесь это сделать… тогда… вы хотите… хотите, чтобы я была донором?
Он покачал головой:
– Нет. Я не могу допустить такого. Это моя задача. Я все сделаю сам. И тогда… если попытка окажется провальной, виноват буду только я.
Он помолчал.
Сьюзен казалось, что ее сердце бьется в горле и она сейчас задохнется.
– Вы можете подготовить горячую воду, много горячей воды. – Он говорил спокойно, мягко. – И я дам вам иглы, их необходимо прокипятить.
После этого Харви молча поднялся. Направляясь к двери, даже не взглянул на помощницу.
Но она встала и пошла следом.
В дальнем конце холла стояли старые кастильские часы, которые давно остановились, но Коркоран наткнулся на них и немедленно починил. Сейчас они протяжно пробили три раза. Поднявшись над темным холлом, рокочущее эхо проплыло по коридору в комнату пациентки.
Харви машинально взглянул на свои наручные часы. Это было его первое движение за последние шестьдесят минут. Да, три часа ночи. За ударами последовала глубокая тишина. Впрочем, она была неполной, ибо в полумраке тихо раздавалось хриплое дыхание больной. Но эти размеренные звуки давно уже стали частью комнаты, вплелись в самую суть ее тишины. Харви остался наедине с Мэри. Его помощники не хотели идти спать, особенно жарко протестовала Сьюзен. Но он настоял. Не из героических побуждений, он просто чувствовал, что так должно быть. Им овладел странный собственнический инстинкт, возникший в тот момент, когда он ощутил, как его кровь медленно сливается с кровью любимой. Это переливание… о, он никогда его не забудет. Никогда! Чистое безумие, ничего более. Просторная голая спальня, неисправный аппарат, секунды, заполненные лихорадочной тревогой, собственное предплечье, залитое сиянием свечи, сгустившаяся вокруг тьма, белое как мел лицо и дрожащие пальцы Сьюзен, – все это создавало такой контраст с его работой в больнице, что казалось смехотворным.
Грандиозная шутка, над которой в углу, держась за бока, хохотала смерть.
Видите ли, он был неправильным – нетрадиционным, ненаучным – этот радикальный метод лечения. Шесть недель назад Харви сам присоединился бы к издевательскому смеху и назвал бы происходящее идиотизмом.
Но сейчас… сейчас он размышлял не как доктор, не как исследователь. Он хотел спасти только одну жизнь. Примитивность оборудования, которым он располагал, не могла его остановить, не остановил и риск – устрашающий риск. Он знал, что Мэри точно умрет, если чем-то не подкрепить ее силы. Не разум, но страстное наитие управляло им. Он провел переливание. Да, оно закончилось. Теперь, непостижимым образом, они соединились. Что бы ни произошло, это единство нерасторжимо. Он чувствовал, что так и есть.
В комнате было невыносимо душно, и его голова, уже кружившаяся от недостатка сна, стала еще легче после потери крови. Вдруг он поднялся, погасил одну из свечей, стоявших на сундуке. Дымное пламя, резавшее глаза, наверняка так же неприятно било и по глазам Мэри. Прикрывая рукой оставшийся огонек, он наклонился, напряженно вглядываясь в ее лицо, а на противоположной стене выросла огромная тень от его фигуры. Потом он вздохнул и снова опустился на стул. По-прежнему никаких изменений, все то же лихорадочное хриплое дыхание. Ее лицо, застывшее в маске беспамятства, все равно оставалось прекрасным. Уголки приоткрывшихся губ были вяло опущены, на впалых щеках горел болезненный румянец, под неплотно закрытыми веками виднелись мраморные полумесяцы белков.
Еще один тяжелый вздох вырвался из груди Харви. Он механически взял миску с водой, смочил губы и горящий лоб пациентки. После переливания крови ее пульс ускорился и наполнился, в сердце Харви ожила надежда, но теперь Мэри снова двинулась вспять в безграничную пустоту, называемую смертью.
Как он боролся все эти последние дни! Он отдал все, что у него было.
Харви просунул руку под простыню и обхватил пальцы Мэри – такие тонкие, не сопротивляющиеся его прикосновению. Ощущение этих горячих пальцев погрузило его в пучину невероятной боли.
Поглощенный болью, он стиснул зубы. Мэри слабела, тонула, и это зрелище, как и осознание собственной беспомощности, сводило его с ума. Со всей страстью он собрал уходящие силы и пожелал, чтобы они перелились от него к любимой. Два крохотных человеческих существа, соединенные лишь переплетенными пальцами, посреди огромной равнодушной Вселенной… Ничтожные под темным покровом ночи, они были как атомы, затерявшиеся в великом мраке. И все же они были вместе. Их единение уничтожало мрак и изгоняло из огромной Вселенной все страхи, кроме одного. Это было начало, это был конец. Так просто, но этой простоте никто не мог бы дать определение, ничто не могло бы разрушить ее власть. Она подавляла своей жуткой убедительностью. Все представления Харви о жизни рассыпались, и из этих руин возникло сияющее откровение. Он больше не насмехался над слабостью человечества, растерял всю холодность и жесткость, все презрение к жизни. Теперь жизнь казалась ему редкостью – чудесным, драгоценным даром, таящим в себе странную, непостижимую сладость.
Так он сидел, склонившись, рядом с ложем больной, его разум был подавлен тяжестью всех страданий и самопожертвования, которые когда-либо знал мир. Потрясенный, он ощутил эту сокрушительную тяжесть: любовь и красота, не отделимые от пота, слез и крови всего человечества.
Его душа – душа, существование которой он