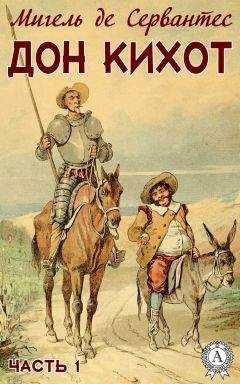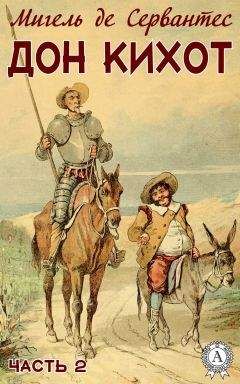– Я читал, помнится мне, что один испанский рыцарь, но имени Диег Перес-де-Варгас, разбив в сражении свой меч, сломил с дуба здоровый сук и этим оружием в тот же день совершил столько подвигов и умертвил столько мавров, что получил название Палицы, которое он и его потомки с тех пор прибавляли к имени де-Варгас. Я говорю это тебе потому, что с первого же дуба или вообще с первого дерева, которое попадется мне на дороге, я хочу сломать такой же здоровый сук, я с ним надеюсь совершить такие подвиги, что ты почтешь себя счастливым, удостоившись быть свидетелем и очевидцем чудес, которым впоследствии весь мир поверит с трудом.
– Да будет воля Божья, – ответил Санчо, – и верю всему, что вы говорите. Но не мешало бы вашей милости немного выпрямиться; мне кажется, что вы держитесь довольно криво и, должно быть, еще чувствуете свое падение.
– Ты прав, – проговорил Дон-Кихот, – и если я не жалуюсь на свою боль, то только потому, что странствующему рыцарю не позволяется жаловаться ни на какие раны, хотя бы ему распороли живот и внутренности вывалились оттуда.
– Если это так, – возразил Санчо, – то мне нечего сказать более, но видит Бог, как бы я был рад, если бы ваша милость жаловались в тех случаях, когда вы ощущаете какую-либо неприятность. Что же касается меня, то я буду жаловаться при малейшей боли, если только, конечно, это запрещение жаловаться не распространяется также и на оруженосцев странствующих рыцарей.
Дон-Кихот не мог не посмеяться простоте своего оруженосца и объяснил ему, что он может совершенно спокойно жаловаться, когда и сколько ему будет угодно, по охоте или без всякой охоты, так как ничего противного этому он не читал в рыцарских законах.
Тогда Санчо заметил ему, что наступил час обеда, но Дон-Кихот ответил, что у него нет сейчас никакого аппетита, но что он, Санчо, может обедать, когда ему захочется. Получив это позволение, Санчо устроился, насколько мог удобнее, на своем осле и, вынув из сумки положенные туда запасы, продолжал путь сзади своего господина, закусывая с большим удовольствием; от времени же до времени он, запрокинув голову, пил из своего меха с такою ловкостью, что вселял бы зависть в любого кабатчика из Малаги. И когда он ехал, таким образом, попивая по глоточку, то он не думал ни об одном из обещаний, данных ему его господином, и считал вовсе не трудом, а скорее истинным отдохновением, отправляться на поиски за приключениями, даже самыми опасными, какие только могут быть.
Эту ночь они провели среди больших деревьев, у одного из которых Дон-Кихот отломил сухой сук, годный для того, чтобы, в случае нужды, служить копьем, и насадил на него железный наконечник от сломанного копья. Дон-Кихот не спал всю ночь, думая о своей даме Дульцинее, в подражание прочитанному им в книгах о том, как странствующие рыцаря проводили многие ночи без сна в лесах и пустынях, всецело занятые воспоминаниями о своих дамах. Санчо Панса провел ночь совсем иначе; желудок его был полон и полон не цикорной водой, поэтому он спал без просыпу и разбудить его не могли ни солнечные лучи, падавшие ему прямо в лицо, ни пение тысячи птичек, радостно приветствовавших наступление нового дня: чтобы проснуться, ему нужно было услыхать голос и зов своего господина. Открыв глаза, Санчо ласково погладил свой мех и, найдя его немного более тощим, чем накануне, опечалился в своем сердце, так как ему казалось, что им не придется наполнять его в скором времени. Что касается Дон-Кихота, то он отказался завтракать, предпочитая, как сказал он, подкреплять свои силы бодрыми воспоминаниями.
Они снова отправились по дороге к Лаписскому проходу и к трем часам пополудни прибыли к началу его.
– Здесь, – сказал Дон-Кихот при виде его, – здесь, друг Санчо, можем мы дать работу рукам до самых локтей в том, что называется приключениями. Но, будь осторожен! если бы даже ты увидал меня в страшнейшей опасности, то и тогда ты не должен обнажать своего меча на защиту меня, разве только в том случае, если увидишь, что на меня нападает чернь или какие-нибудь негодяи, – только в этом случае ты можешь помочь мне; но если нападать будут рыцари, то рыцарские законы никак мы допускают и не позволяют тебе являться на помощь мне, пока ты сам не будешь посвящен в рыцари.
– Поверьте моей чести, господин, – ответил Санчо, – в этом я буду добросовестно слушаться вашей милости: тем более, что я от природы очень миролюбив и всегда питал отвращение к вмешательству в шум и распри. Однако, предупреждаю вас, что если только дело коснется защиты своей собственной особы, то я мало буду обращать внимания на эти законы; потому что, в конце концов, законы божеские и человеческие позволяют каждому защищаться, кто бы ни нападал на него.
– Я ничего не имею против того, – проговорил Дон-Кихот, – но что касается помощи мне против рыцарей, то в этом ты должен постараться сдерживать свою природную пылкость.
– Хорошо, – ответил Санчо, – я буду соблюдать этот приказ так же точно, как праздновать воскресенье.
В то время, как они так беседовали, на дороге показались два монаха из ордена св. Бенедикта, сидевшие верхом, и видимому, на двух дромадерах, так как мулы, на которых они ехали казались не меньшого роста. На глазах у них были дорожные очки, а в руках – зонтики. Сзади них ехала карета, которую сопровождали четыре или пять человек верховых и два пеших конюха. В этой карете находилась, как стало известно потом, дама из Бискайи, ехавшая в Севилью, где находился ее муж, собиравшийся отправиться в Индию на значительную должность. Монахи ехали не вместе с нею, но по одной дороге. Едва только Дон-Кихот заметил их, он сказал своему оруженосцу:
– Или я сильно обманываюсь или мне предстоит славнейшее приключение, какое только когда-либо видели, потому что эти черные привидения, появившиеся там, должны быть – и, без сомнения, это так и есть на самом деле – волшебники, которые везут в этой карате какую-нибудь похищенную принцессу, и на мне лежит долг употребить всю мою силу для исправления этого зла.
– Это приключение, – ответил Санчо, – кажется мне, будет еще хуже, чем приключение с ветряными мельницами. Будьте осторожны, мой господин, эти привидения – монахи бенедиктинцы, а карета принадлежит каким-нибудь путешественникам. Остерегайтесь, повторяю я, остерегайтесь делать то, что вы задумали, и пусть черт не соблазняет вас.
– Я уже тебе сказал, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – что ты мало понимаешь в деле приключений. То, что я сказал, совершенно верно, и мы это увидим сию же минуту.
Сказав это, он подвинулся вперед и стал посреди дороги, которой ехали монахи, и, когда он увидал их настолько близко к себе, что ему можно было услыхать их, громко сказал им:
– Призраки и слуги дьявола! немедленно освободите высоких принцесс, которых вы силою увозите в этой карете; иначе готовьтесь принять скорую смерть, как справедливое возмездие за ваши злодеяния.
Монахи остановились и, не менее удивленные наружностью Дон-Кихота, чем его речью, ответили ему:
– Господин рыцарь, мы не призраки и не слуги дьявола, а просто два монаха ордена св. Бенедикта, едем своею дорогой и не знаем, сидят ли в этой карете высокие принцессы или нет.
– От меня не отделаться прекрасными словами, – снова проговорил Дон-Кихот, – и я хорошо вас знаю, бесчестная сволочь!
И, не дожидаясь ответа, он пришпорил Россинанта и, с опущенным копьем, бросился на первого монаха с такою силою и стремительностью, что, не свались тот заранее с своего мула, он был бы сброшен на землю с порядочною раною, если бы не был даже совсем убит ударом. Другой монах, видя, как поступили с его товарищем, обхватил ногами шею своего доброго мула и с быстротою ветра помчался по полю. При виде монаха лежащим на земле, Санчо Панса, легко соскочив со своего осла, бросился к упавшему и начал снимать с него платье. Между тем подбежали слуги двух монахов и спросили его, зачем он обирает их господина. Санчо ответил, что эта добыча принадлежит ему по закону, вследствие одержанной его господином победы. Слуги, не любившие шутить и не понимавшие прекрасных выражений о добыче и победах, заметили, что Дон-Кихот удалялся для переговоров с людьми, сидевшими в карете; поэтому они накинулись на Санчо, повалили его на землю и, вырвав сначала у него бороду почти до последнего волоса, начали потом осыпать его ударами до тех пор, пока он не растянулся на земле бездыханным и беспамятным. Монах, не теряя ни минуты, снова влез на своего мула дрожащий, испуганный и без кровинки в лице; затем, устроившись верхом на нем, он направился к своему товарищу, который ожидал его на некотором расстоянии, посматривая, что произойдет из этой внезапной суматохи; и оба они, не желая ожидать конца приключения, поехали дальше своею дорогою, творя крестные знамения чаще, чем если бы за ними по пятам гнался дьявол.
Что же касается Дон-Кихота, то он вступил в разговор, как уже сказано, с дамой в карете; он сказал ей: