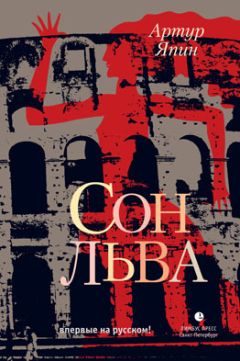самый Филипп, который покупал у тебя за бесценок картины и продавал их в десять раз дороже. Прикидываешь? Этот Филипп – редкая мразь, я о нем кое-что знаю. Когда-нибудь расскажу тебе, как он однажды подставил двух наших пацанов, и они ушли на тот свет. Я вообще подозреваю, что Филипп и есть реальный заказчик Караваджо, а тот заказчик в Германии – подставной. Филипп потом переправит эту картину из Германии в Штаты и продаст ее кому-то в частную коллекцию.
Никита медленно подносит сигарету к губам и, даже не затянувшись, так же медленно удаляет ее от раскрытого рта:
– Эй, ты чего ждешь? Героин остывает. Провернем дело, получишь хорошие бабки, купишь себе хату, тачку, телку. Будешь жить жизнь. Втыкай, Грек, не пожалеешь, пошло оно все на хер...
Худой, как щепка, с исколотыми руками, с абсцессами на шее, в порванных джинсах и футболке, ходил Гурий по пустыне. Его изможденное лицо вытянулось, ввалившиеся щеки покрывала грязная борода, длинные нечесаные волосы свисали до плеч. Глаза его казались огромными, вернее, это были не глаза, а две темные глубокие ямы. От его отравленного опиумом тела и потной одежды исходил невероятный смрад.
Сколько дней он провел в пустыне,Гурий не помнил и знать не хотел. Даже не помнил, в каком отеле Египта он оставил свои вещи. Все это теперь не имело для него никакого значения.
Солнце жгло пустыню. Яркий свет заливал склоны величественных тысячелетних гор, безмолвных свидетелей жалкой человеческой истории, истории набегов, разбоя и бесконечных войн. В великолепии оттенков, в строгости линий открывали горы свои бескрайние владения. Белый песок сменялся темной вязкой грязью, наслоенной на скалы. Он часто поскальзывался, скатывался вниз по склону и потом лежал, едва шевелясь, чувствуя, что его ослабевшее сердце не выдержит таких нагрузок и дыхание вот-вот оборвется. Проходил сквозь ущелья, где ненадолго садился на пыльную каменистую дорогу, чтобы передохнуть в тени. Иногда стоял на самом краю пропасти, над крутыми обрывами, где один неверный шаг мог навеки утянуть его вниз.
Несколько раз ему попадались пустые банки из-под пепси-колы и порванные корзины, наверное, брошенные бедуинами. Как-то раз он издали увидел их лагерь: люди в длинных черных балахонах и с покрытыми головами ходили возле больших черных палаток. Возле них стояло несколько легковых автомобилей, по лагерю бегали дети. На ближних холмах лежали верблюды и паслись козы.
Но не пошел к бедуинам Гурий. Не их он искал, и не они ему были нужны.
В своем последнем письме после многочисленных его просьб, игуменья монастыря в Каире неожиданно сообщила ему, что Мариам самовольно покинула монастырь и ушла неизвестно куда. «Никакими сведениями об ее нынешнем местопребывании я не располагаю».
Неизвестно куда? Гурий не сомневался, что Мариам удалилась в пустыню – совершать подвиг безмолвия, о чем она давно мечтала и что собиралась исполнить. Она сейчас здесь, в пустыне, и он найдет ее.
Ночью он лежал на земле, возле какой-нибудь еще теплой скалы. Съежившись, поджав ноги к животу, как жалкий котенок. Дрожал. Но стоило ему закрыть глаза, как тут же перед ним возникали таможенники, пачки долларов, стрельба, кровь... От этих видений он дико кричал, становился на колени и рыл грязь уже давно разодранными пальцами.
Как-то под утро, когда он то ли засыпал, то ли пробуждался, услышал он странный шорох. Это шуршали священнические ризы. Дед Ионос, в полном облачении, вышел из одесских катакомб и приблизился к Гурию.
– Здравствуй, сынок, – сказал дед. – Вот ты, наконец,и вернулся. Я так долго тебя ждал. Вставай, вставай, – дед помог ему подняться.
Рука его была очень легкая и, в то же время, крепкая, твердая. Он поцеловал Гурия в щеку. Потом взял маленькую кисточку и обмакнул ее в серебряную чашечку с елеем:
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, – произнес дед по-гречески.
Теплое, пахучее масло после прикосновения кисточки густо полилось по лбу Гурия, по щекам, закапало на грудь. Он хотел что-то сказать, но все слова уже как будто были им сказаны.
– Слава нашему Господу, что привел тебя, – сказал дед Ионос и перекрестился. Его запястья, выглянувшие из-под широких рукавов, были в крови от наручников.
И исчез дедушка Ионос, вернее, не исчез, но как будто отошел в сторону, встал поодаль, готовый идти следом за Гурием, кротко улыбаясь в бороду.
И заблагоухала пустыня елеем, и силы у Гурия прибавилось, и смог он идти дальше.
А вечером меловые горы становились пепельными. И трудно было взбираться на склоны, потому что ноги Гурия были слабы, и не за что было ухватиться худой руке.
И когда он полетел в какую-то глубокую яму и почувствовал, что у него больше нет сил подняться, снова послышался шорох ткани. И вышел к нему из воздуха монах Дамиан, в длинной рясе, перевязанной в поясе веревкой, и с капюшоном на голове. Монах поднял Гурия и, улыбнувшись, повел его вверх, по крутому склону, как по ровной дороге.
– Когда-то в Риме мы встретились у Собора Святого Петра и кормили птичек, помнишь? Мы тогда говорили о смирении и покаянии, о том, что Бог прощает любой грех раскаявшемуся грешнику. Прощает и щедро награждает, – сказал Дамиан по-итальянски, но Гурий понимал каждое его слово. – А я умер от рака в прошлом году. Но ведь смерти нет, у Бога все живы.
Они взошли на высокую гору. Дамиан устремил взор на восток, где в темном небе прорезывалась красная полоса восхода.
А потом пришла мама. Гладила его по голове. Целовала. И повторяла: «Сынок, Гурочка, вставай...» И он чувствовал на своем гноящемся обожженном лице ее теплые живительные слезы.
– Да, мамочка, да. Сейчас, только не плачь, не плачь, – просил он ее.
На равнине он срывал травинки и жевал, высасывая из них капельки влаги.
Недолго с ним шел авва Серапион, длинный и худой, широкими шагами, весело размахивая кадильницей. Говорил на коптском о том, что вот теперь у Гурия борода тоже вся седая и волосы тоже седы.
– «Любовь все прощает, всему верит, всего надеется…» – напевал авва Серапион, а Гурий ему подпевал.
И странным казался этот иссохший, грязный бородатый мужчина, бродивший по пустыне день и ночь и распевающий псалмы. Как будто вернулись времена древних отшельников, кочевавших