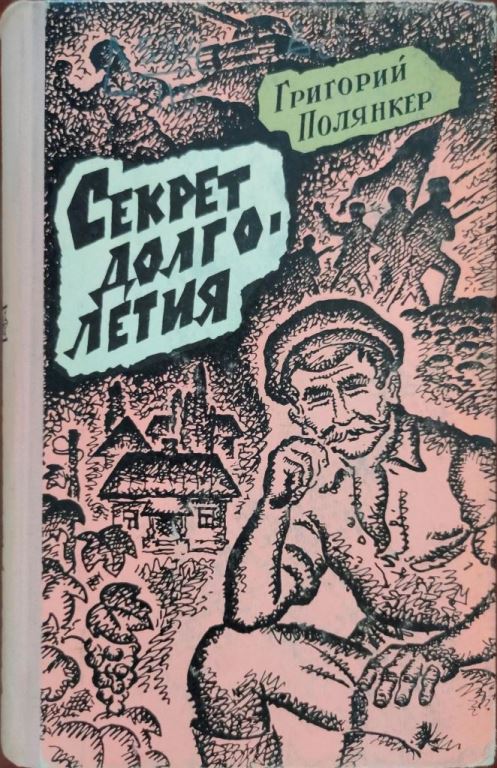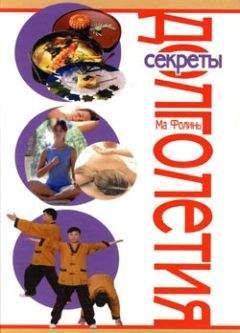он в сторону пушкарей. — У них на руках он скончался…
Артиллеристы молча смотрели на сгорбившуюся фигуру товарища. Как человек сразу осунулся, постарел!.. И никто не мог найти для него слов утешения. Ну как ты утешишь старика, который потерял на войне трех сыновей, а о четвертом нет никаких известий?
Шмая закурил, поправил повязку и медленно пошел в сторону перекрестка. Около разбитой улочки Шмая остановился.
Дорогу пересекли повозки с ранеными. Шмая подошел ближе, стараясь разглядеть лица лежащих на соломе солдат. Но что это? Или померещилось ему? Вслед за крайней повозкой шла, понурив голову, Шифра. Она ничего, казалось, перед собой не видела, не отводя глаз от того, кто лежал на повозке. Шмая с трудом узнал Васю Рогова. Вася был смертельно бледен и, кажется, бредил. Вместо правой руки под окровавленным одеялом зияла впадина. «Руку оторвало…» — мелькнуло в голове у Шмаи, и он бросился к повозке.
— Вася! Сынок! — не своим голосом крикнул Шмая. Но тот даже не пошевельнулся. Только Шифра подняла на земляка заплаканные глаза.
— Руку ампутировали, — не останавливаясь, промолвила она. Подумав мгновение, опустила голову. — А утром мы хоронили вашего сына… Просто не верится… Как живой стоит перед глазами…
Шмая прошел несколько шагов за повозкой, рассеянно слушая Шифру, и, заметив, что веки Васи дрогнули, погладил его по лицу:
— Держись, сынок, держись, дорогой!.. Такой тяжелый путь прошли… И вот в последние часы войны… Не повезло тебе… А мне?.. Нет у меня уже сыновей… Ты мне теперь будешь сыном…
Вася открыл глаза, что-то пробормотал, но Шмая не расслышал его слов.
Повозка пошла быстрее, и Шифра вцепилась в нее, чтобы не отстать.
Два дня и две ночи шли уличные бои. По развалинам домов, через горы кирпича и щебня, среди пылающих зданий, сквозь дым и пыль пушкари перетаскивали свои орудия, обрушиваясь на обезумевших гитлеровцев, которые все еще верили, что им удастся отодвинуть час своей гибели. Советские воины неудержимо рвались вперед. Ведь до центра Берлина было уже рукой подать, и надо было спешить. Каждый боялся пропустить тот великий момент, когда над пузатым куполом рейхстага взовьется красное знамя Победы, когда весь мир узнает о падении вражеской твердыни.
Упоенные боем, люди не замечали, как шло время, когда кончался день и начиналась ночь.
Ранним майским утром вдруг прекратился пушечный гром и настала какая-то удивительная, звенящая тишина.
Шмая открыл глаза и поднялся с ящиков, стоявших рядом с пушкой Сидора Дубасова. Тут и там сидя дремали пушкари. Кажется, всех разбудила эта неожиданная тишина. Шмая долго тер глаза, стараясь вспомнить, где он находится, и, увидев улыбающегося Ивана Борисюка, направился к нему:
— Почему так тихо, гвардии капитан?
— Не вечно же воевать… Кажется, все…
Он хотел еще что-то сказать, но вдруг среди тишины послышался рокот самолета. Это был не бомбардировщик, не штурмовик, не истребитель, от которых надо было лезть в щель, падать на землю, укрываясь от пуль и осколков. Важно, с чувством собственного достоинства плыл над развалинами знаменитый «кукурузник». Выключив мотор, он спланировал, и сверху, с небес, раздался взволнованный голос:
— Поздравляем с победой, друзья! Берлин пал! Фашисты капитулировали!..
— Победа! Полная победа над фашизмом!..
Пушкари вскочили со своих мест. Минуту следили за маленьким самолетом, махали ему вслед руками, пилотками, касками. Бойцы обнимались, целовались, поздравляли друг друга, не находя слов, чтобы выразить свой восторг. Все еще не верилось, что так необычно закончилась война, казалось, что это только сон. Но все было именно так.
По дороге, ведущей в Берлин, мчались машины, танки, на броне которых сидели и стояли бойцы с поднятыми автоматами. Отовсюду слышались выстрелы из автоматов и винтовок. Каждый салютовал, палил в воздух в честь победы, и все спешили к Бранденбургским воротам, к рейхстагу, полюбоваться на развевающееся на нем красное знамя Победы.
Артиллеристы выкатили пушки на обочину дороги, отряхнули с сапог кирпичную пыль. Взобравшись на груды камней, на разбитые стены, они всматривались в ту сторону, где среди развалин громоздился мрачный, весь окутанный дымом рейхстаг с развевающимся на нем алым знаменем, которое, как чудилось всем, поднималось из пламени.
Товарищи помогли старому солдату вскарабкаться на толстую стену. Глаза его были полны слез. Это были слезы большой солдатской радости и гордости. Шмая был счастлив, что дожил до этой великой минуты, но вместе с тем сердце его сжималось от горя. Гибель сына давала себя чувствовать еще сильнее, терзала душу, мешала дышать. Он вспомнил боевых друзей, которые не дожили до этого часа, холмики могил, на которых остались наскоро сколоченные из досок солдатские обелиски с краткими надписями…
А бойцы ликовали, и Шмая старался затаить в глубине души свою скорбь, не омрачать общего праздника. Старый солдат знал, что у каждого есть свое личное горе, своя особая скорбь. Но в такие минуты об этом не нужно думать.
Вот они высыпали на дорогу — тысячи испуганных, униженных головорезов. Идут, проклятые, и орут во всю глотку: «Гитлер капут!..» Смотрят заискивающе, со страхом на победителей — русских солдат. Идут, понурив головы, с белыми тряпками на рукавах, с сорванными погонами, без крестов, без нашивок, и жаждут поскорее попасть в лагерь для военнопленных. Пленные прижимаются к развалинам, пропуская колонны машин, идущих к Бранденбургским воротам.
— Ишь, как дрожат, гады! — указывали ребята на понурых пленных. — Захотелось им войны, вот они ее и получили!..
— А помнишь, как они, фрицы, шагали в начале войны!
— Ничего, больше они так никогда не будут шагать! Вырвали клыки, сломали им хребет!..
На машинах поют, смеются, радуются советские воины. Вот идут пехотинцы, а на сапогах у них пыль исхоженных дорог, пыль всей Европы. Они пришли сюда сквозь смертельные бои и принесли с собой немеркнущую славу советского оружия. Идут с песнями неровным строем, автоматы, винтовки, пулеметы несут кое-как. Со стороны даже может показаться, что это идут на отдых рабочие люди после тяжелой трудовой вахты.
Войска подтягивались к центру города. Иван Борисюк приказал прицепить пушки к машинам и ехать к Бранденбургским воротам. Он помог своему старому другу взобраться в кузов, стал рядом с ним, облокотившись на запыленную крышу кабинки. Заметив слезы на глазах Шмаи, он положил руку ему на плечо и, кивнув в сторону пленных, толпами бредущих по обочине дороги, сказал:
— Вытри, папаша, слезы… Неудобно. Пусть они теперь плачут кровавыми слезами!..
Шмая поднял на Борисюка влажные глаза и кивнул головой:
— Ты прав, сынок. Очень хорошо сказал…
Глава тридцать шестая
В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ
Город, поверженный в прах,