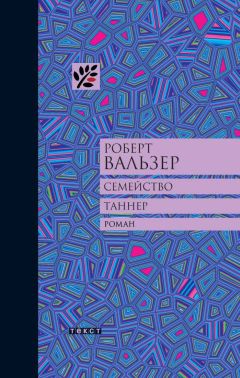Пока Клара писала это письмо, Симон и Каспар сидели при зажженной лампе. Им еще не хотелось ложиться в постель, и они разговаривали друг с другом.
— В последние дни, — сказал Каспар, — я вообще не пишу, а коли так пойдет дальше, брошу искусство и заделаюсь крестьянином. Почему бы нет? Разве обязательно заниматься искусством? Разве нельзя жить иначе? Может, я просто по привычке воображаю, будто всенепременно должен заниматься искусством. Может, вернуться к нему через десяток лет? Тогда будешь на все смотреть по-другому, намного проще, намного менее фантастично, а это отнюдь не повредит. Надобно иметь мужество и доверие. Жизнь коротка, если не доверяешь, но длинна, если доверяешь. Что можно упустить? Я вот чувствую, что становлюсь день ото дня инертнее. Надо ли мне собраться с силами и, подобно школяру, заставить себя выполнять обязанности? А есть ли у меня обязанности перед искусством? Можно ведь повернуть все и так, и этак, смотря как заблагорассудится. Писать картины! Сейчас это представляется мне ужасной глупостью и совершенно безразлично. Надобно дать себе волю. Не все ли равно, сколько пейзажей я напишу — сотню или два? Можно писать не переставая и остаться дилетантом, которому в голову не приходит вложить в свои картины хоть чуточку собственного опыта, ибо он за всю жизнь опыта не накопил. Когда наберусь опыта, я и кистью стану водить разумнее и осмысленнее, и вот это для меня небезразлично. Дело-то не в количестве. И все же: некое чувство подсказывает мне, что нехорошо хотя бы и на один день забросить упражнение. Это леность, треклятая леность!..
Продолжать он не стал, потому что в этот миг они услыхали долгий страшный крик. Симон схватил лампу, и оба ринулись вниз по лестнице, в комнату, где, как они знали, спала она. Кричала Клара. Прибежал и Агаппея. Женщину они нашли распростертой на полу. Казалось, она собиралась раздеться и лечь в постель, но упала, внезапно сраженная припадком. Волосы распустились, прекрасные руки судорожно дергались на полу. Грудь бурно вздымалась и опускалась, на открытых губах металась неясная усмешка. Все трое мужчин, склонясь над нею, крепко держали ее за руки, пока судороги мало-помалу не прекратились. При падении она не поранилась, хотя легко могла бы. Потом они подняли бесчувственную Клару и полуодетую уложили на аккуратно приготовленную постель. Когда расшнуровали корсет, она стала спокойнее. Облегченно вздохнула и как будто бы уснула. Улыбка становилась все прекраснее, ей снился сон, она тихонько что-то лепетала, словно издалека долетал звон колокольчиков, чистый, но едва внятный. Они напряженно прислушивались, обсуждая, стоит ли призвать из города врача.
— Останьтесь, — спокойно сказал Агаппея Симону, который хотел было сей же час отправиться в дорогу, — все пройдет. Это не впервые.
Они сидели, по-прежнему прислушиваясь, многозначительно глядя друг на друга. С уст Клары слетали невразумительные, короткие, отрывочные, полупропетые-полупроизнесенные фразы:
— В воде, нет, смотри же, глубоко-глубоко. Потребовалось очень много времени, очень-очень много. А ты не плачешь. Если б ты знал. Вокруг меня все так черно, так мутно. Но смотри же. У меня изо рта растет фиалка. Она поет. Слышишь? Слышишь? Наверно, все думают, я утонула. Как хорошо, как хорошо. Нет ли подходящей песенки? Клара! Где она? Ищи ее, ищи же. Но тебе придется зайти в воду. Ух, тебе страшно, да? А мне уже вовсе не страшно. Фиалка. Я вижу, как плавают рыбки. Я совершенно спокойна, я ничего больше не делаю. Будь милым и добрым. Ты смотришь так сердито. Клара лежит вон там, вон там. Видишь, видишь? Я хотела сказать тебе кое-что еще, но я рада. Что я хотела тебе сказать? Не помню. Слышишь, как я звеню? Это звенит моя фиалка. Колокольчик. Я всегда это знала. Только не говори. Я ведь уже не слышу. Пожалуйста, пожалуйста…
— Идите-ка спать. Если станет хуже, я вас разбужу, — сказал Агаппея.
Хуже не стало. Наутро Клара снова была бодра и совершенно не помнила, что с нею случилось. У нее немножко побаливала голова, вот и все.
Клара чувствовала себя восхитительно. В темно-синем пеньюаре, который благородными складками облекал ее тело, она сидела на балконе, откуда открывался вид на ели, что нынче утром слегка покачивали верхушками от легкого ветерка. «Все ж таки лес прекрасен, — подумала она, перегнувшись через изящные резные перила, чтобы приблизиться к благоуханию хвои. — Как привольно раскинулся лес, будто уже сейчас дремлет в ожидании ночи. Днем, при ярком солнце, входишь в лес словно в вечерний сумрак, где шорохи отчетливее и тише, а запахи влажнее и ощутимее, где можно отдыхать и молиться. В лесу молишься непроизвольно, и это единственное место на свете, где Бог совсем близко; Бог словно бы создал леса, чтобы там молились как в священных храмах; один молится так, другой этак, но молятся все. Коли, лежа под елью, читаешь книгу, то молишься, ежели молитва то же самое, что глубокая задумчивость. Где бы ни был Бог, в лесу чутьем угадываешь Его и с тихим восторгом немножко в Него веришь. Бог не хочет, чтобы в Него слишком уж верили, Он хочет, чтобы Его забыли, и даже рад, когда Им пренебрегают, ведь Он несказанно благ и велик; Бог — самое уступчивое, что только есть в мировом пространстве. Он ни на чем не настаивает, ничего не хочет, ни в чем не нуждается. Хотеть чего-то предоставлено нам, людям, для Него это не значит ничего. Для Него вообще ничто не имеет значения. Он рад, когда Ему поклоняются. О, этот Бог придет в восхищение и от блаженства не сумеет собраться с мыслями, коли я сейчас пойду в лес и поблагодарю Его, чуть-чуть, совершенно беспечно поблагодарю. Бог так благодарен. Хотела бы я знать, кто благодарнее Его. Он дал нам все, неосторожный, добрый, и теперь поневоле рад, когда Его создания чуточку о Нем вспоминают. Уникально в нашем Боге то, что Он хочет быть Богом, только если мы соблаговолим возвысить Его до нашего Бога. Кто больше учит скромности, чем Он? Кто более прозорлив и более кроток? Быть может, Бог тоже лишь строит о нас догадки, как и мы о Нем, и, например, я сейчас высказываю всего лишь мои догадки о Нем. Догадывается ли Он, что я сижу сейчас здесь, на балконе, и нахожу Его лес чудесным? Ах, знал бы Он, как прекрасен Его лес. Но по-моему, Бог забыл Свое творение, не от скорби, ведь разве Он способен скорбеть, нет, Он просто забыл или, по крайней мере, кажется, что забыл нас. Отношение к Богу может быть каким угодно, ведь Он допускает любые мысли. Но Его легко потерять, размышляя о Нем, потому-то к Нему и возносят молитвы. Боже милостивый, не введи нас во искушение. Так я молилась ребенком, лежа в постельке, и, помолившись, всегда была собою довольна. Как же я нынче счастлива и радостна; все во мне улыбка, блаженная улыбка. Все мое сердце улыбается, воздух так свеж, по-моему, нынче воскресенье, приедут люди из города, станут гулять по лесу, а я выберу себе какого-нибудь ребенка, спрошу позволения у его родителей и немного с ним поиграю. Надо же, я могу просто сидеть здесь и радоваться, что существую, сижу здесь, перегибаюсь через перила! И при этом кажусь себе красивой. Впору забыть Каспара, забыть все. Теперь я не понимаю, как вообще могла о чем-то плакать, испытывать потрясения. Лес такой неколебимый и все же такой гибкий, теплый, живой и прелестный. Как дышат ели, как шумят! Шум деревьев упраздняет любую музыку. Вообще, мне бы хотелось слышать музыку только ночью, но не утром, утро для этого, по-моему, слишком торжественно. Я чувствую себя до странности свежей. Удивительно — лечь спать, нет, сперва устать, потом лечь спать, а потом проснуться и чувствовать себя так, будто заново родился. Каждый день для нас — день рождения. Словно ступаешь в купальню, вот точно так же из покровов ночи ступаешь в волны голубого дня. Скоро настанет полуденный зной, а затем солнце в томлении зайдет. Какое томление, какое чудо с вечера до утра, с полудня до вечера, с ночи до утра. Все показалось бы чудесным, если бы ты чувствовал все, ведь не может одно быть чудесным, а другое нет. По-моему, вчера я была больна, только мне этого не говорят. Как по-прежнему красиво и невинно выглядят мои руки. Будь у них глаза, я бы поднесла к ним зеркало, чтобы они полюбовались своею красой. Счастлив тот, кого я ласкаю моими руками. Что за странные мысли одолевают меня. Приди сейчас Каспар, я бы, наверно, расплакалась, что он видит меня такой. Я ведь не думала о нем, и он бы почувствовал, что я о нем не думала. Как же огорчает меня мысль, что я пренебрегла им. Я что же, его раба? Какое мне дело до него?»
Она заплакала. И тут вошел Каспар.
— Что с тобой, Клара?
— Ничего! Что со мной может случиться? Ты ведь здесь. Мне недоставало тебя. Я счастлива, но терпеть не могу быть счастливой в одиночку, без тебя. Потому и заплакала. Иди же ко мне. — И она крепко прижала его к себе.
Мало-помалу неспешная, ленивая жизнь стала Симону совершенно невыносима. Он чувствовал, что скоро ему вновь придется ежедневно трудиться: «Все-таки жить как большинство совсем неплохо. Безделье и уединение начинают меня раздражать. Еда не доставляет мне удовольствия, прогулки утомляют, да и что уж такого значительного и возвышенного в том, чтобы на знойных сельских дорогах подставлять свою шкуру укусам мух и оводов, ходить по деревням, спрыгивать с обрывов, сидеть на эрратических валунах, подпирать рукой голову, открывать книгу и не иметь возможности дочитать ее до конца, потом купаться в хотя и красивом, но все же отдаленном озере, снова одеваться и отправляться в обратный путь, а потом заставать дома Каспара, который от вялости тоже знать не знает, на какой ноге стоять и каким носом думать или каким пальцем трогать свои носы. При такой жизни легко обзаведешься кучей носов и станешь целый день приставлять десять пальцев к десяти носам и размышлять. А собственные носы только высмеют тебя да еще и нос покажут. Ну-с, и что же такого божественного в том, что видишь, как десяток с лишним носов показывают тебе нос? Вообще-то я лишь иллюстрирую факт, что от этакой праздной жизни глупеешь. Нет, я опять начинаю совестить себя и думать, что продолжаться так не может, надобно что-то предпринять. Ходить по жаре — строго говоря, никакое не дело, не может быть делом, а книги читает только простофиля; ведь одни лишь простофили и бьют баклуши. Трудиться среди людей — вот в конечном счете единственный способ развить свой ум и характер. Что же делать? Может, сочинять стихи? Чтобы сочинять стихи в этакую жару, следовало бы сперва назваться Себастианом, вот тогда, наверно, я бы засел за стихи. Он-то сочиняет, я уверен. Этот человек первым делом идет на прогулку, подробно изучает озера, леса, горы, ручьи, лужи и солнечный свет, может, иной раз кое-что записывает, а воротившись домой, пишет про это статью, и ее потом печатают газеты, которые и суть весь мир. Подойдет ли мне такое занятие? Пожалуй, коли бы я во всем этом разбирался, но ведь не разбираюсь. Так что же, сызнова кропать цифры, подчищать счета да расходовать чернила? Думаю, придется, хотя невелика честь сызнова начинать уже оставленное. Но никуда не денешься. В данном случае думать надобно не о чести, а о необходимом и неизбежном. Мне двадцать лет. Как же я успел достичь этакого возраста? Иной, поди, вконец падет духом, ежели, дожив до двадцати годов, должен опять начинать с того места, где был, когда закончил школу. Ну а я, раз уж другого выхода нет, постараюсь найти в этом как можно больше удовольствия. Я ведь и не стремлюсь в жизни к преуспеянию, просто хочу, чтобы в моей жизни было хоть немного смысла. Вот и все. Собственно говоря, просто хочу дожить до новой зимы, а потом, зимой, когда валит снег, подумаю, как быть дальше, смекну, как жить лучше всего. Очень мне нравится разделять жизнь на маленькие, простые, легкие задачки, над которыми незачем ломать голову, они решаются сами собой. Кстати, зимой я всегда умнее и предприимчивее, чем летом. Этакая жара, цветенье да благоуханье особо к делу не побуждают, а вот холод и мороз уже сами собой подгоняют-пришпоривают. Стало быть, до зимы надобно скопить немножко денег, а прекрасной зимой употребить их на что-нибудь полезное. Я бы не хотел зимой учить языки, целыми днями, в нетопленых комнатах, пока пальцы не окоченеют, однако ж лето предназначено для тех, кто получает отпуск, для тех, кто любит провести время на даче и за милую душу босиком, даже нагишом побегать по жарким лугам, повязав на бедра разве что кожаный фартук, как Иоанн Креститель, который, говорят, вдобавок еще и кузнечиков ел. Так что я пока лягу на кровать будничных трудов и усну, а проснусь, только когда на землю посыплется снег, горы побелеют, а буйные северные ветра станут обжигать уши огнем мороза и льда. Холод для меня словно жар, неописуемый, невыразимый! Да, именно так я и поступлю, не будь я Симон. Клара зимой закутается в мягкие, теплые меха, я буду сопровождать ее на улице, на нас будут падать снежинки, тихие, уютные, беззвучные и — теплые. О, ходить за покупками, когда на темных улицах идет снег, а магазины освещены огнями. Входить в лавку вместе с Кларой или следом за нею и говорить: дама желает купить то-то и то-то. Клара благоухает в своих мехах, а ее лицо — каким красивым оно будет, когда мы снова выйдем на улицу. Может быть, зимой она станет работать в каком-нибудь изысканном магазине, как и я, и я смогу каждый вечер заходить за нею, если только она не запретит. Агаппея, возможно, прогонит свою жену, и тогда ей придется устроиться на работу, что для нее труда не составит, ведь выглядит она так благородно. Всё, пора остановиться. Может, господин Шпильхаген из акционерной компании электрического освещения и продолжил бы размышления, но не я; мне до него далеко, и я не беру на себя такого множества обязательств перед всем светом, которое бы вынудило меня продолжать. Ах, зима! Скорей бы уж она пришла…»