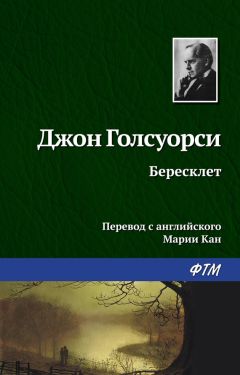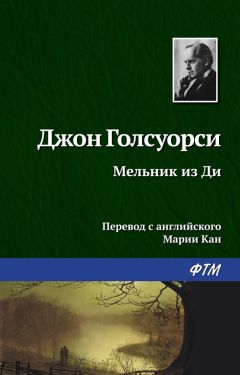Причина такой уступчивости стала ему ясна в тот же вечер на Грин-стрит, когда он развернул вечернюю газету: "Не исключена возможность, что это трагическое происшествие потрясет до основания всю Европу. Страшные последствия, которыми чревато это убийство, буквально ошеломляют". Вот и Думетриуса они, видно, ошеломили. Сразу спасовал. Сомс отлично знал, как капризен спрос на предметы, ценность которых меняется в зависимости от душевного спокойствия людей и наплыва туристов из Америки. Страшные последствия! Он отложил газету и стал размышлять. Нет! Этот Думетриус просто паникер. Одним эрцгерцогом больше, одним меньше, - не так уж это важно, они и без того вечно попадают в газеты. Интересно, что скажет завтра по этому поводу "Таймс", но, вероятно, все окажется бурей в стакане воды. Европейские дела, надо заметить, мало интересовали Сомса. Слова "волнения на Балканах" вошли в поговорку; а если что-нибудь входит в поговорку - значит, за этим ничего нет.
"Таймс" он прочел на следующий день, когда вез своего Якоба Мариса домой в Мейплдерхем. Передовые, как водится, негодующе осуждали убийство, но во всей газете Сомс не нашел ничего, что помешало бы ему отправиться на рыбную ловлю.
И весь тот месяц, даже после австрийского ультиматума Сербии, Сомс, как и 99 процентов его соотечественников, решительно не понимал, "из-за чего подняли такую шумиху". Вообразить, что это может как-то коснуться Англии, мог только помешанный. Сомс ни разу даже не остановился на этой мысли всерьез: он был в пеленках, когда кончилась Крымская кампания, и привык считать, что Европе, пожалуй, следует иногда давать советы, но не более того. К тому же у Флер как раз начались каникулы, и он подумывал о том, чтобы купить ей лошадку: ей скоро тринадцать лет, пора обучить ее и этому никчемному, в сущности, искусству - верховой езде. А если уж непременно нужно о чем-то беспокоиться, так разве мало беспокойства доставляет Ирландия? Первое смутное предчувствие огромной беды заронила в нем Аннет, теперь, к тридцати пяти годам, ставшая настоящей красавицей. Она не читала английских газет, но часто получала письма из Франции. 28 июля она сказала Сомсу:
- Сомс, скоро будет война - эти немцы совсем взбесились.
- Война? Из-за такого пустяка? Вздор, - проворчал Сомс.
- Ах, у тебя совсем нет воображения, Сомс. Война непременно будет, и моей бедной родине придется воевать за Россию. А вы, англичане, что будете делать?
- Делать? Да ничего, конечно. Если вы с великого ума полезете воевать, так мы-то тут при чем?
- Мы надеемся на вашу помощь, - сказала Аннет. - Но разве на англичан можно положиться? Вы всегда выжидаете, всегда смотрите, куда ветер дует.
- Какое нам до всего этого дело? - с досадой возразил Сомс.
- А вот увидишь, какое, когда немцы возьмут Кале.
- Я думал, вы, французы, считаете себя непобедимыми.
Но он встал и вышел из комнаты,
И в тот вечер даже Флер заметила, что он не обращает на нее внимания. Всю субботу и воскресенье он не находил себе места. В воскресенье разнесся слух, что Германия объявила войну России. Сомс решил, что это газетная утка; но полночи он провел без сна, а в понедельник утром, прочтя о том же в "Таймсе", первым поездом поехал в город. День был неприсутственный, и он направился в свой клуб в Сити - единственное место, где была надежда что-нибудь узнать. Оказалось, что многие явились туда с той же целью, и среди них - один из компаньонов обслуживавшей Сомса маклерской конторы "Грин и Грининг", или, как их чаще называли, "Врин и Врининг". Сомс изложил ему свои пожелания относительно продажи кое-каких ценных бумаг. Маклер- это оказался "Врин" - искоса поглядел на него.
- Ничего не выйдет, мистер Форсайт. Биржа, говорят, несколько дней будет закрыта.
- Закрыта? - переспросил Сомс. - Вы что, хотите сказать, что они прекратят операции, даже если...
- Ничего другого не остается, иначе акции сразу слетят до нуля. И так уже начинается паника.
- Паника! - повторил Сомс, грозно глядя на маклера ("Так я тебе и поверил!"). - Считайте, что не получали от меня распоряжений; ничего я не буду продавать.
Не подозревая, что выразил этими словами не только свое личное решение, он встал и отошел к окну. На улице царила тревога. Газетчики выкрикивали: "Германия предъявила ультиматум Бельгии!" Сомс смотрел вниз, разглядывал лица. Это было не в его привычках, но сейчас он поймал себя на этом занятии. Все, как сговорившись, озабоченно хмурятся. Ну и дела! Дома, на реке, все это как-то не доходило до сознания. И вдруг его потянуло взглянуть на телеграфную ленту.
Вокруг аппарата толпились какие-то незнакомые люди, и Сомс, который терпеть не мог делать то же, что и другие, а тем более дожидаться такой возможности, прошел в курительную и уселся в кресло. В клубе он бывал очень редко и теперь просто не представлял себе, как заговорить с незнакомыми ему членами, так что ему оставалось только прислушиваться к их разговорам. Но и это было достаточно тревожно. Те трое или четверо, чьи слова он мог расслышать, были, казалось, обеспокоены лишь одним: а вдруг "это чертово правительство окажется не на высоте". Сомс все сильнее напрягал слух. Никогда еще за такое короткое время он не слышал столько ругани по адресу радикалов и рабочих. Слова "изменники" и "политиканы" повторялись снова и снова, как некий рефрен. Хотя в общих чертах высказываемые мнения, пожалуй, и совпадали с его собственными, все, что было в нем сдержанного, размеренного и расчетливого, глубоко возмущалось. Они что же, воображают, что война - это увеселительная прогулка?
- Если мы сейчас не выступим, - сказал один из собеседников, - мы никогда не сможем смотреть людям в глаза.
Сомс громко фыркнул. Почему? Непонятно. Германия и Австрия против Франции и России - это пожалуйста, если уж им так хочется валять дурака. В старину в Европе всегда шла война. А теперь, когда у них такие огромные армии, удивительно еще, как они давно не сцепились. Но Англии-то какой смысл не вводить воинскую повинность и содержать большой военный флот, если этим все равно не убережешься от войны? Вот и эти краснобаи - на самом деле они ведь только и думают, что о своих дивидендах. А что это им даст? Если Англия очертя голову вступит в войну, никаких дивидендов вообще не будет. Война, а? Все существо человека, в течение шестидесяти лет принимавшего мирное состояние Англии как нечто непреложное, восставало против такой ужасающей перспективы. По какому праву русские - да если на то пошло, и французы рассчитывают, что Англия будет таскать для них каштаны из огня? Ну, а немцы? Кайзер у них фанфарон, только и знает, что бряцать саблей да бахвалиться, но все-таки их легче понять, чем русских или французов. Что касается Австрии, смешно и подумать, что с ней можно воевать.
- Альберт обратился за помощью к великим державам, - сказал кто-то.
Альберт! Это бельгийский король. Так он, значит, обратился за помощью? Бельгия! А разве ей не даны гарантии нейтралитета, так же, как Швейцарии? Не сделают же немцы такую глупость... Мы живем в цивилизованную эпоху договоры и все такое... Сомс поднялся. Что толку слушать этих джингоистов. Надо пойти позавтракать.
Но есть ему совсем не хотелось - очень было жарко. Может, и на события в Европе повлияла жара? А что, очень просто. Посадить этих императоров и генералов на лед, они бы живо притихли. Он допивал стакан ячменного отвара, когда официант сказал члену клуба, сидевшему за соседним столиком:
- Так я слышал, сэр.
- Боже милостивый! - охнул тот, вскакивая с места.
Сомс забыл о приличиях.
- Что вы слышали?
- Немцы вторглись в Бельгию, сэр.
Сомс поставил стакан на столик.
- Кто это вам сказал?
- Передали по телеграфу, сэр.
Сомс издал горлом звук такой низкий, что, казалось, он возник где-то в глубине его штиблет. Нужно подумать. Но думать здесь, в клубе, нет никакой возможности.
- Дайте счет, - сказал он.
Уплатив по счету, он, наперекор клубным правилам и долголетней привычке, добавил шиллинг на чай: у него было смутное чувство, что он чем-то особенно обязан этому лакею. И тут ему захотелось домой; он доехал до вокзала на такси, а в поезде всю дорогу то читал вечернюю газету, то невидящим взглядом смотрел в окно.
Дома он ничего не сказал - никому ничего не сказал о том, что узнал в клубе, - его целиком поглотил неслышный и мучительный процесс внутреннего приспособления. Сейчас этот Грей {Эдвард Грей - министр иностранных дел в 1905-1916 гг.} - серьезный человек, самый из них порядочный, - должно быть, уже начал свою речь в палате общин. Что он им там говорит? И как они принимают его слова? Усевшись в свою лодку, Сомс прислушивался к воркованью лесных горлиц в зеленом покое безоблачного дня. Ему хотелось побыть одному. Англия! Говорят, английский флот в боевой готовности.
Дальше этого его мысль отказывалась проникать. Близость воды почему-то успокаивала его, словно река могла донести его веру в английский флот до самого моря, туда, где качался на волнах этот флот-гордость и защита Англии. Он свесил руку за борт, и зеленоватая вода побежала у него между пальцами. Смотри-ка! Вон зимородок - ярко-синяя вспышка в тростниках. Сомс что-то давно его не видел. Не хотел бы он быть на месте этого Грея. Говорят, он любит птиц и рыбную ловлю. Что он им там говорит под сенью Большого Бена? Он всегда был джентльменом, что же ему и смазать, как не то, что Англия сдержит свое слово? И опять из горла у Сомса вырвался звук, возникший, казалось, в самых подошвах. Под этим, в сущности, как будто и нельзя не подписаться. А дальше что? Все эти мирные луга, все семьи по всей стране, курс ценных бумаг - все пойдет прахом! А старому дяде Тимоти девяносто четыре года. Нужно распорядиться, чтобы они там помалкивали. К счастью, после смерти тети Эстер в доме совсем не бывало газет; а когда Тимоти в 1910 году прочел про палату лордов {В 1910 году было ограничено право палаты лордов налагать вето на законопроекты, принятые палатой общин.}, он так расстроился, что и "Таймс" перестал выписывать. "А мои картины!" - подумал Сомс. Да, и гувернантка у Флер - немка: по-французски Флер с раннего детства говорила с матерью. Скорее всего, Аннет захочет ее уволить. И куда ей тогда деваться? Если будет война, никто не захочет взять в дом немку. Пролетела стрекоза. Сомс проследил за ней взглядом, чувствуя глубоко в душе обиду и боль. Такое замечательное лето - теплое, ясное, так нет же, чем бы радоваться, заварили во всем мире эту чертову кашу. Ведь это... это может бог знает до чего дойти! Он встал в лодке и, работая шестом, медленно переправился на другой берег. Стала видна церковь. Сам он никогда не ходил в церковь, но полагал, что люди что-то в этом находят. А вот теперь начнут по всей Европе палить друг в друга из пушек. Что скажут тогда священники? А вероятно, ничего не скажут, чудной они народ. Семь часов! В палате, должно быть, все уже кончилось. И он стал медленно переправляться обратно. Его обволакивали запахи - пахло цветущими липами и таволгой, шиповником и жимолостью, да и травой, отдающей дневную жару. Не хотелось уходить от воды, но сырость, сырость!