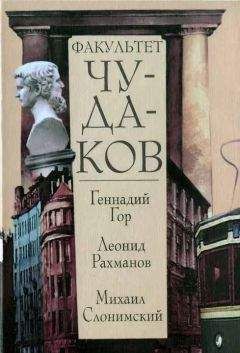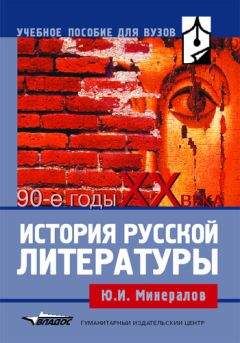Я читал с доброжелательным предубеждением и… восторгом!
Там жена уходила от мужа по частям: сначала рука, потом нога… сначала брови, потом подбородок… в конце концов осталось одно ухо, но и оно исчезло при встрече с женою на улице.
Такая боль расставания!
— Гениально! — восклицал я, в тайно обусловленном месте возвращая автору рукопись. — Надо печатать.
— Нельзя! — испуганно озирался он.
— Почему же нельзя! — возмущался я. — Уже можно. «Превращение» же напечатали!
— Я Кафку тогда не читал… Я сам это написал.
— Тем более! Кафке можно, а вам нельзя?
— Вам уже можно.
— Вы же теперь фантастику пишете, выдайте рассказ за фантастику, Геннадий Самойлович.
— Ну что вы, право, Андрей Георгиевич. Как ребенок… Это не фантастика.
— Что правда, то правда.
— Я еще один рассказ нашел…
И он обменивал «Маню» на «Чайник». Там муж превращался в чайник на подоконнике, а жена жаловалась соседке, что муж ушел, и кипятила его на газе…
Наконец-то юный формалист обрел тему! Больно стало. Сам пережил. Неужто у этой парочки «неразлучников» были проблемы?..
— У меня еще третий рассказ есть…
— Давайте скорее!
— Но он не окончен… Там у детей умерла мать, но на самом деле не умерла. Она прилетает…
Мне сейчас не восстановить дословно, допаузно, как он это пересказал, но таким вдохновенным пространством прозы повеяло из первых же двух фраз!
— А дальше?
— Я допишу, для вас допишу…
И я читал этот третий рассказ до конца… Трепет первых трех страниц был изумителен: проза! Как птица в руке… Вдруг — не строка, а линия, как в календаре, — линия отрыва. Далее — фраза как фраза, предложение как предложение — всё вроде на месте, а прозы уже нет.
— До этих пор было написано? — ткнул я в строку.
— До этих, — вздохнул Гор.
Он все понял. Не могу простить себе этой молодой жестокости.
Во искупление писал я о нем заказную статью о его лучшем прижизненном сборнике «Большие пихтовые леса».[3] Туда, по моему, возможно, настоянию, осмелился он включить и «Маню». Туда же он включил ряд рассказов из «Живописи». Всё прошло (до чего же двусмыслен русский глагол!): никто и не заметил.
Но кроме этих маргиналий (в начале и в конце) был в этом томе и примечательный слой нормальной русской прозы (не авангардной, не соцреалистической): из жизни малых северных народов. Используя опыт своего детства на Дальнем Востоке, пристрастие к живописному примитиву и социальный заказ на «дружбу народов», хитроумный Гор дописался до подлинных страниц, ничему как бы не противоречивших: ни авангарду, ни партийным установкам, ни попросту вкусу. Первобытный дар совпал с молодым (форма — с содержанием).
«…приснился старухе лес, здешний, мертвый. Ни птичьего крика, ни всплеска, ни шелеста. Тихо-тихо. Старуха шла по тропе, спешила домой. А вместо дома пришла в чужое место. Стояли дома, много домов. Но в домах не было людей. И вещи были, столы, стулья, а людей не было. В домах были ветер, зима, снег. В одном доме пол треснул, и возле кровати лежал камень, покрытый мхом, словно кровать стояла в лесу.
Старуха вскрикнула и проснулась».
Искусство! Описание нейтронной бомбы в тридцатые годы и ни слова о коллективизации.
Отдав автору должное, словно искупив вину, я забыл о Горе, ленинградскую судьбу переживая уже в Москве. Прошло лет десять, и однажды я оказался в отделе кадров Союза писателей СССР по поводу обмена членских билетов (был такой повод в связи с выдачей членского билета № 2, после № 1 А. М. Горького, Л. И. Брежневу, перед тем получившему № 2 как коммунист и № 2 как журналист после № 1 В. И. Ленина).
В россыпи фотокарточек 3x4, в поисках своей, увидел я знакомый череп, добрейшую лысину над испуганными очками, Г. С. Гора.
— Ему тоже еще не поменяли?
— Он умер.
— Так зачем же его фотокарточка?
— Для ликвидации.
«Нет сказок лучше тех, что придумывает сама жизнь», как сказал лучший друг молодых писателей М. Горький, бывший настолько же старше Г. С. Гора, насколько тот был старше меня.
Так я узнал о его смерти.
На лысине фотографии проступили крупные капли пота, как на моих глазах слезы.
Вспомнил и последнюю встречу…
— А я «Корову» нашел!
Сорокалетняя машинопись обветшала как древняя рукопись, закруглилась по углам.
Он читал мне избранные места.
— Так давайте напечатаем!
— Как можно!
— Нужно!
— У порядочного писателя должно остаться что-нибудь в столе после смерти… — удовлетворенно вздохнул он.
Он умер, и никаких препятствий на пути «Коровы» к опубликованию уже не осталось.
Пропала сама «Корова». В очередной, быть может, последний раз.
Наконец, еще через тридцать лет, усилия Андрея Арьева увенчались.
Читая сегодня этот семидесятилетний текст, я предаюсь предательскому диву недоуменных воспоминаний.
Удивляюсь, прежде всего, тому, что жив, что живу.
Жив, несмотря на все то, что в «Корове» написано и не написано, именно в «Корове»…
«Корова» — литпамятник. Памятник борьбе формы и содержания, к слиянию которых призывал нас соцреализм. В финале слог Хлебникова озвучен трубою Мальчиша-Кибальчиша. Но победила форма, а не дружба. Победа содержания над формой (если такое возможно) есть бездарность. Победа формы над содержанием есть пародия.
А как было еще быть, когда:
«А известно ли товарищу Молодцеву, что изобразительное искусство является наивреднейшим видом буржуазного искусства? Нам не нужно изображение природы, на которую нам некогда любоваться и рассматривать, а портреты вождей и изображение классовой борьбы и колониальной политики нам дает фотография. Фотография нам дает научное, объективное изображение действительности. И если есть сомневающиеся, я могу подтвердить свою мысль известными советскими изданиями и журналами, заострившими свое оружие и внимание масс в борьбе с изобразительным искусством».
«А ведь это может плохо кончиться, — подумал… И вдруг струсил. Его руки струсили, его ноги струсили. И он сам струсил».
Прежде чем ноги-руки жены ушли от мужа в шедевре Г. С. «Маня», они ушли от попа в «Корове».
«Он было пошевелил рукой, но рука не пошевелилась. Он было пошевелил ногой, но нога не пошевелилась…
— В чем дело? — сказал поп. — Это чудо.
— Это чудо, — сказала толпа кулаков.
И вся толпа было пошевелила рукой, но рука не пошевелилась…
— Наши ноги не идут, — сказали они… — В чем же дело? Это чудо?
— Это чудо, — хотел было ответить поп. Но ничего не ответил, потому что его язык не ответил.
— Даже язык отказался от меня, — уже было подумал он, но ничего не подумал, потому что ничего не подумал».
Колхоз оказался содержанием, а кулак — формой.
Их борьба отражена в искусстве соцреализма. У Гора как художника, как он ни старался, победила форма. Сюрреалист — соцреалиста.
То есть художник-то и выжил.
Андрей Битов 22 июня 2000, Сиверская
Гор слегка походил на Пиквика — лысый, круглый, в пенсне, но, в отличие от знаменитого персонажа Диккенса, держался скованно и настороженно. Глаза его за выпуклыми стеклами были плохо различимы. Однако то, что он нам расказывал (возглавив наш литкружок), потрясало нас, питомцев советских школ. «Литература, оказывается, должна быть экстравагантной, вызывающей, пугающей…» Он познакомил нас с Замятиным, Добычиным, Селином. Без него мы, глядишь, пополнили бы безликую армию советских писателей… а тихий, застенчивый, монотонно говорящий Геннадий Самойлович Гор пробудил в нас гонор, самонадеянность, стремление быть непохожим, диким, непричесанным (хотя у него самого гонора и волос почти не осталось). Вскоре мы узнали, как советская власть «причесала» его, и стали относиться к нему с двойным почтением. Чувствуя, как мы благодарны ему, он постепенно теплел, приглашал нас в гости к себе на дачу и домой. И живопись, что он всю жизнь собирал и которую, наконец, посчастливилось увидеть нам, бывает, оказывается, не только советской, но и необыкновенной — то зашифрованной, то, наоборот, примитивной… он открыл нам «окно в Европу», в мир, в бескрайнюю подлинную культуру.
Помню одну из наших последних встреч в Комарово — он сидел в саду, гладил по головке белокурую внучку, слегка растерянно (как всегда) улыбался: «Врачи говорят, что среди сосен и озона мне быть вредно — но здесь хорошо работается».
Помню его, выходящего из Дома писателей с похорон одного из своих ровесников, помню его расстроенное лицо. «Крепко разбередил нас Гор — спасибо ему за это».
Валерий Попов Октябрь, 2003