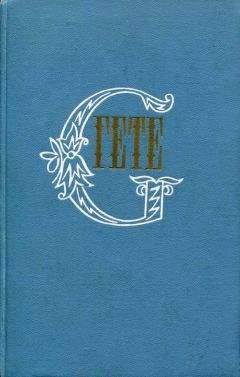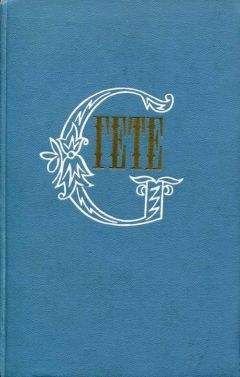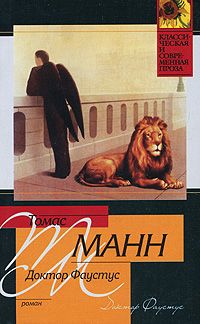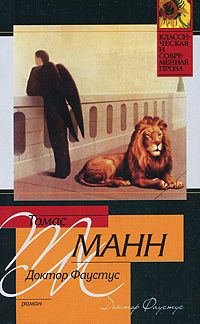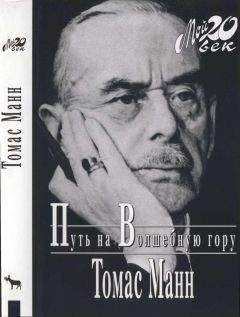Рука, которую он простер к Шарлотте, как бы предоставляя ей слово, непозволительно дрожала, такая дрожь уже внушала тревогу. Но он, казалось, этого не замечал, и хотя Шарлотта настойчиво желала, чтобы она, наконец, опустилась, он долго держал в воздухе эту руку с колеблющимися, как от землетрясения, вихляющимися пальцами. Ример, по-видимому, изнемог, да и не удивительно. Нельзя, не переводя дыхания, так долго, с такой напряженной стройностью речи говорить о вещах, столь близко принимаемых к сердцу, и не выдохнуться, не выказать симптомов, которые Шарлотта с волнением и неудовольствием подметила в нем: он побледнел, пот выступил у него на лбу, воловьи глаза невидящим взором уставились в пространство, открытому рту со всегда брюзгливой черточкой сообщилось выражение трагической маски; он дышал тяжело, прерывисто, и слышно.
Сопение и дрожь мало-помалу прекратились, и так как ни одна тонко чувствующая женщина не может счесть приятным и для себя подобающим смотреть на зашедшегося - хотя бы в приступе кашля - мужчину, то Шарлотта отважно попыталась, несмотря на собственную взволнованность и нервное напряжение, успокоить собеседника веселым смехом, надо думать относившимся к шутливым словам о поцелуе. Впрочем, на них она уже откликнулась движением, которое Ример принял за желание говорить, - и небезосновательно, хотя она, собственно, и не знала хорошенько, что хочет сказать. Теперь она произнесла первое, что ей пришло на ум:
- Но что же вы хотите, мой милый господин доктор? Сравнение с поцелуем не ущемляет и не унижает поэзии. Напротив, это очень милое сравнение: оно воздает ей должное и самым почтенным образом противопоставляет ее жизни и действительности... Хотите знать, - спросила она внезапно, словно ей пришло в голову нечто способное отвлечь разволновавшегося доктора и навести его на другие мысли, - хотите знать, скольким детям я подарила жизнь? Одиннадцати, считая тех двух, которых господь снова взял к себе. Простите мне мое самохвальство, но я была страстной матерью, из числа тех, что не скрывают своего счастья и любят хвалиться ниспосланным на них благословением. Я говорю это потому, что христианской женщине не приходится опасаться страшного возмездия, постигшего языческую царицу - я что-то запамятовала ее имя - ах да, Ниобею, - ведь это она так жестоко поплатилась за свою материнскую гордость?.. Вообще же многодетность обычна в нашей семье, и моей личной заслуги тут нет. В Немецком орденском доме нас, если бы не смерть пятерых, насчитывалось бы шестнадцать детей. Впрочем, эта маленькая толпа, для которой я играла роль матери задолго до того, как стала ею, получила уже достаточную известность, и я как сейчас помню неистовый восторг моего брата Ганса, бывшего в особенно коротких отношениях с Гете, когда прибыла книжка о Вертере и стала ходить по рукам в нашем доме. У нас было два экземпляра, мы их разделили на листы и страницы, чтобы читать одновременно. И детворе, особенно нашему весельчаку Гансу, за радостью видеть весь свой домашний быт так обстоятельно воспроизведенным в романе, и в голову не пришло, как мы были уязвлены и напуганы, мой добрый муж и я, этим преданием нас гласности, всей этой правдой, на которую налипло столько неправды...
- Как раз об этом, - Ример, уже начинавший успокаиваться, воспользовался возможностью прервать ее, - об этих чувствах я и хотел спросить вас.
- Я заговорила о них между прочим, - продолжала Шарлотта, - сама даже не знаю почему, и не хочу на них останавливаться. Это зарубцевавшиеся раны, и только рубцы напоминают о прежних страданиях. Слово "налипло" пришло мне на ум, потому что оно играло тогда известную роль в наших объяснениях, и наш друг в ряде писем живо от него оборонялся. Он близко принял его к сердцу, "не налипло, а вплетено в ткань{74}, - писал он, - вопреки вам и всем остальным!" Ну хорошо, пусть вплетено. Нам от этого было не легче. Он также уверял Кестнера, что Кестнер не Альберт, отнюдь не Альберт. Но как заставить людей этому поверить? Что я не Лотта, этого он не утверждал, а только просил мужа горячо пожать мою руку и передать мне: "Сознание, что твое имя{74} произносится тысячами благоговейных уст, все же некоторая компенсация за сплетни досужих кумушек". И здесь он, пожалуй, был прав. Да я и с самого начала думала не столько о себе, сколько о своем уязвленном муже, и потом всем сердцем радовалась удовлетворению, которое, в награду за его прекрасные качества, принесла ему жизнь, радовалась тому, что он стал отцом моих детей, - впрочем, и тот, другой, всегда относился к ним с сердечным участием, в этом ему отказать нельзя. Однажды он написал, что хотел бы крестить их всех{74}, ибо они так же близки ему, как и мы. Мы и правда попросили его в крестные к нашему первенцу в семьдесят четвертом году, хотя нам очень не хотелось называть его Вольфгангом, на чем тот непременно настаивал; и мы потихоньку дали ему имя Георг. Но в восемьдесят третьем году Кестнер послал ему силуэты всех бывших у нас к тому времени детей, и очень его этим порадовал. Всего шесть лет назад он помог моему сыну Теодору, врачу, женатому на уроженке Франкфурта, девице Липперт, получить там права гражданства и профессуру в Медико-хирургической академии. Да, в этом случае он пустил в ход все свое влияние; и когда в прошлом году Теодор вместе с братом Августом, легационным советником, навестил его в Гербермюле, у доктора Виллемера, он очень дружелюбно принял обоих, осведомился о моем житье-бытье и даже сказал, что знает их всех по силуэтам, присланным ему их покойным отцом, когда они еще были озорными мальчишками. Августу и Теодору пришлось дать мне подробный отчет об этом визите. Говоря о силуэтах, он выразил сожаление, что этот некогда столь принятый способ оставлять память о себе совершенно вышел из моды. Он был очень обязателен, рассказывали они, и только как-то непокоен во время беседы в саду, где собралось небольшое общество. Он ходил взад-вперед по лужайке, заложив одну руку в карман, другую за борт сюртука, и когда останавливался, то казалось, не очень твердо стоял на ногах и всякий раз прислонялся к дереву.
- Ну, это вполне понятно, - произнес Ример, - он был не в духе. А сентенция по поводу силуэтов ровно ничего не значит и сказана лишь бы что-нибудь сказать. Но не будем к нему строги.
- Право, не знаю, мой милый господин доктор, в свое время он имел случай оценить всю прелесть искусства ножниц. Как мог бы он иначе составить себе представление о моих детях? Ведь несмотря на свою к ним приверженность, он никогда не нашел или не искал случая узнать их и вновь свидеться со своим старым Кестнером. Тут силуэты очень пригодились. Вам, наверное, известно, в Вецларе у Гете был также и мой силуэт (как бы я хотела знать, хранится ли он еще у него!) и какую неистовую бурную радость выказал он, получив его в подарок от Кестнера. Возможно, что отсюда и идет его пристрастие к этому виду искусства.
- О, конечно! Не могу вам сказать с уверенностью, находится ли эта реликвия среди прочих. Но это весьма важно, и я обещаю вам как-нибудь, в благоприятную минуту, разузнать у него о ее судьбе.
- Я предпочла бы спросить его сама. Как бы там ни было, но я знаю, что некогда он просто поклонялся этой бедной тени. "Тысячи, тысячи поцелуев{75} запечатлел я на нем, тысячи приветов слал ему, уходя или возвращаясь домой". Так у него написано. По Вертеру, портрет был мне возвращен, но ведь он, слава господу и всем нам на благо, не застрелился, а следовательно, еще владеет им, если только время не испепелило силуэта. Да, кроме того, он и не мог вернуть его мне, ибо получил его не от меня, а от Кестнера. Но скажите, господин доктор, не кажется ли вам, что бурная радость, выказанная им по поводу этого подарка, который он получил даже не от меня, а от моего жениха, то есть от нас обоих, и его необыкновенная к нему приверженность свидетельствуют об удивительной готовности довольствоваться малым?
- Это поэтическое довольствование малым, - заметил Ример, - то, что для других - нищета, для поэта - величайшее богатство.
- Видимо, это же заставило его довольствоваться силуэтами детей, вместо того чтобы свести с ними настоящее знакомство и завернуть к нам во время одного из путешествий; если бы Август и Теодор не взяли на себя инициативы и не решились посетить его в Гербермюле, он так бы и не увидел ни одного из человечков, которых, по его же собственному признанию, хотел бы всех, без исключения, иметь своими крестниками, ибо они ему были так же близки, как и мы. Его старый Кестнер, мой добрый Ганс-Христиан, отошел в вечность, тому уже шестнадцать лет, так и не свидевшись с ним. О моем здоровье он очень учтиво расспрашивал мальчиков, но никогда, за всю нашу долгую жизнь, не сделал ни малейшей попытки узнать о нем от меня... И если бы теперь, в предвечерний час, я не взяла на себя почин, - от чего мне, может быть, следовало воздержаться, но ведь я приехала к своей сестре Ридель, а все остальное, разумеется, не более как а propos*.