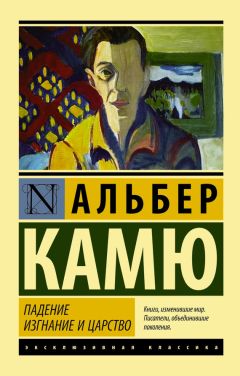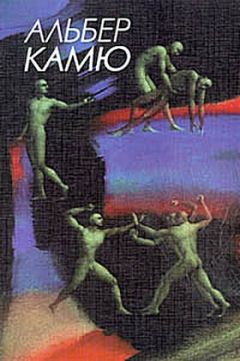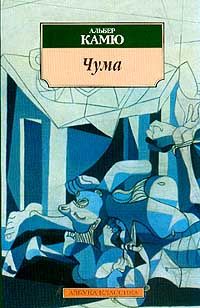Счет у меня к нему есть и к его учителям, к тем, кто меня учил и обманул, к гнусной Европе, я всеми обманут. Я только и слышал, что миссионерство да миссионерство, прийти к дикарям и проповедовать им: «Поглядите, вот Господь мой, он никого не бьет, не убивает, он повелевает тихим словом, подставляет другую щеку, это самый великий господин, выбирайте его, посмотрите, благодаря ему я сделался лучше, хотите убедиться – ударьте меня». И я поверил, э-э, и чувствовал, как становлюсь лучше; я пополнел, похорошел даже; я мечтал о поругании. Когда солнечным летним днем мы сомкнутым черным строем проходили по улицам Гренобля и нам встречались девочки в легких платьицах, я не отводил глаз, нет, я презирал их, я хотел, чтоб они меня оскорбили, и иногда они смеялись. Я думал: «Вот бы они меня ударили, плюнули бы в лицо», – однако и смех их был ничуть не лучше, он щетинился зубами, вонзался колкими иглами, но оскорбление и страдание были приятны. Я уничижался, и духовник мой недоумевал: «Да нет же, в вас много хорошего!» Хорошего! Кислого вина во мне было много – вот чего, ну и пусть, ведь как стать лучше, если и без того неплох, – это я хорошо усвоил в их учении. В сущности, только это я и усвоил, одну-единственную мысль, и, как подобает смышленому ослу, доводил ее до завершения, я искал наказания, я чурался обыденности, короче, я хотел сам послужить примером: глядите все и, глядя на меня, поклоняйтесь тому, кто сделал меня лучше, почитайте во мне Господа моего.
Солнце дикарей! Вот оно встает, меняется пустыня, давеча напоминавшая по цвету горный цикламен, горы мои родимые, снежные, мягкий ласковый снег, нет, сейчас все сделалось изжелта-серым, сумеречный час – преддверие всемогущего зарева. Впереди – ничего до самого горизонта, где плоскогорье мреет в нежных еще красках. Позади меня тропа карабкается на дюну, за которой скрылась Тагхаза: название это вот уже многие годы железом бряцает в голове. Первым, кто рассказал мне о ней, был полуслепой старик священник, доживавший свой век в монастыре, собственно, первым и единственным, и даже не город из соли с белыми, опаленными солнцем стенами поразил меня в его рассказе, нет, поразительна была жестокость дикарей, населяющих недоступный чужеземцам край: на памяти старика только один из всех, кто пытался пробраться туда, один только смог поведать о том, что увидел. Они его высекли и выгнали в пустыню, засыпав солью раны и рот, спас случай: кочевники, которых он встретил, проявили к нему сострадание, и я с тех пор все предавался мечтаниям о жгучем огне соли и огне небесном, о храме идола и его рабах, вот где оно, варварство-то подлинное, то есть самое притягательное, вот где я призван явить Господа моего.
В семинарии они меня увещевали, охлаждали всячески мой пыл, мол, надо подождать, мол, и место неподходящее, и я еще незрел, я должен специально готовиться, познать себя должен, испытания пройти, а там видно будет! Все ждать да ждать! Нет уж, специальная подготовка, испытания – куда ни шло, тем более в Алжире, все ближе к месту предназначения, а в остальном я только тряс своей неподатливой башкой и долдонил свое: ехать к самым диким варварам, жить их жизнью и собственным примером показывать, хотя бы и в самом храме идола, что истина Господа моего сильнее. Они, разумеется, станут бить меня и оскорблять, но поругание не страшило меня, оно было как раз необходимо для моей цели, я снесу его безропотно и тем приворожу дикарей, точно могучее солнце. Могущество, я постоянно пережевывал это слово, я мечтал о неограниченной власти – той, что повергает на колена, заставляет противника складывать оружие, то есть обращает его в мою веру, и чем более он слеп, жесток и самоуверен, чем крепче цепляется за свои убеждения, тем выше возносится покоривший его. Наставить на путь истинный заблудших, но, впрочем, славных людей – таков убогий идеал наших священнослужителей, коих я презирал: при такой-то власти дерзать на такую малость, значит, не было в них веры, а у меня была, я хотел, чтобы сами палачи поклонились мне, чтобы пали на колена и говорили: «Зрим, Господи, победу Твою», хотел владычествовать словом над целым полчищем извергов. О, я не сомневался, что рассуждаю правильно, пусть в остальном я не слишком уверен в себе, но уж если овладеет мною какая идея, нипочем не отступлюсь, тут-то вся моя сила, сила, говорю я, но они жалели меня!
Солнце поднялось выше, голова моя горит. Камни вокруг глухо потрескивают, только ствол ружья прохладен, прохладен, как луг, как, помню, дождь по вечерам, когда на кухне варился суп и отец с матерью ждали меня, они иногда улыбались, я, может быть, их любил. Все, кончено, жаром туманится тропа, приходи, миссионер, я жду тебя, мне есть чем ответить на твою проповедь, новые учителя преподнесли мне урок, я знаю, они правы, пора свести счеты с любовью. Когда я бежал из семинарии в Алжир, я представлял себе варваров совсем иными, в одном мечтания не обманули меня – они жестоки. Я обокрал казначея, сбросил сутану, я пересек Атласские горы, высокогорные плато, пустыню, и водитель в Сахаре тоже смеялся надо мной: «Не ходи туда», все в один голос, и были сотни километров песчаных волн, то надвигающихся, то отступающих под ветром, и снова горы, ощетинившиеся черными вершинами, с хребтами острыми, точно лезвие ножа, а дальше пришлось нанять проводников и идти по бескрайнему, гудящему от зноя морю бурых камней, обжигающих тысячью огнедышащих зеркал, до того места на границе земли черных и белой страны, где лежит соляной город. Проводник еще украл у меня деньги, которые я по наивности, опять же по наивности, показал ему, а он саданул меня в скулу и бросил как раз вот тут, на тропе: «Ступай, собака, вон дорога, честь имею, валяй, они тебя научат», – и они научили, о, они подобны солнцу, разящему гордо и без устали, исключая ночь, вот и сейчас разящему, ох как сильно, жгучими, яростно пронзающими землю копьями – скорее, скорее в укрытие, под скалу, не то и вовсе мрак.
Тень здесь приятна. Как можно жить в городе из соли, на дне заполненной белым зноем чаши? На ровных, грубо вытесанных стенах зарубки от кайла ерошатся сверкающими чешуйками, припорошенными бледно-желтым песком, а налетит ветер, очистит стены и плоские кровли, и все засияет умопомрачительной белизной под вычищенным до самой своей голубой корки небом. В такие дни я слеп от яркого пожара, часами неподвижно полыхавшего на белых плоских крышах, сливавшихся в единую массу, словно вырубленных из одной соляной горы, как если б некогда они срезали с нее верхушку, а потом прорыли в ее толще улицы, внутренние помещения, окна или, вернее, вырезали свой белый жгучий ад кипятком из брандспойта, лишь бы только доказать, что смогут жить там, где никто не сможет, в тридцати днях пути от всякого жилья, в яме посреди пустыни, где дневное пекло не позволяет людям сообщаться между собой, разделяя их частоколом незримого пламени с расплавленными в нем кристаллами соли, а сменяющая его ночная стужа враз замуровывает в соляных раковинах жителей этого сухого припая, черных эскимосов, стучащих зубами в ледяных кубах домов. Черных, потому что одеты они в длинные черные балахоны, и соль, вездесущая соль, забивающаяся под ногти и ночью хрустящая на зубах горечью полярного сна, соль, растворенная в питьевой воде единственного источника на дне сверкающей расселины, иной раз оставляет на их сумрачных платьях потеки, похожие на след улитки после дождя.
Дождь, Господи, один только дождь, обильный и затяжной, дождь с Твоего неба! И тогда подмытый у основания страшный город станет медленно, но неукротимо оседать и, растаяв без остатка, вязким потоком захлестнет и умчит в пески своих свирепых обитателей. Господи, один только дождь! Господь? Нет, господа они! Они царствуют в своих бесплодных домах, владеют черными рабами, морят их в копях, – за пласт вырубленной соли южные страны платят по человеку, – укрытые траурными покрывалами, они безмолвно движутся по белокаменным улицам и с наступлением ночи, когда город, словно призрак, одевается молочной пеленой, они, согнувшись, уходят во мрак жилищ, где лишь тускло мерцают соленые стены. Легок их сон, а едва проснувшись, они уже повелевают, бьют, все мы – единый народ, говорят они, и еще что их бог истинный и что надо повиноваться. Мои господа они, им неведома жалость, они не признают над собой ничьей власти, они хотят завоевывать и царствовать сами, поскольку никто, кроме них, не дерзнул построить в соли и песках ледяной тропический город. А я, да что там…
Какая каша, все путается от жары, я потею, они – никогда, тень постепенно накаляется, сквозь толщу скалы над головой я чувствую солнце, оно садит по камням, точно молотом бьет, так что звон стоит, немолчная музыка юга, вибрация сотен километров воздуха и камня, э-э, да я снова слышу тишину. Такая вот тишина много лет назад встретила меня, когда стража подвела меня к ним на залитую солнцем площадь, откуда город концентрическими террасами поднимался под опущенную на края чаши крышку ярко-голубого неба. Поверженный на колени, я стоял на дне вогнутого белого щита, огненные и соляные стрелы, исходившие из стен, кололи глаза, я был бледен от усталости, ухо, по которому хватил вожатый, кровоточило, и они, черные исполины, молча глядели на меня. День был в разгаре. Под ударами чугунного солнца гудело небо, точно раскаленный добела лист железа, звучала тишина, они смотрели на меня, время шло, а они все смотрели и смотрели, и я не выдержал их взглядов, сдавило горло, сильней, сильней, и когда наконец я разрыдался, они вдруг беззвучно развернулись ко мне спиной и все разом удалились. Стоя на коленях, я видел только, как блестящие от соли ноги в красно-черных туфлях приподнимали край скорбного платья, носки туфель были слегка задраны, задники едва слышно шлепали по земле, а когда площадь опустела, меня отволокли в их капище.