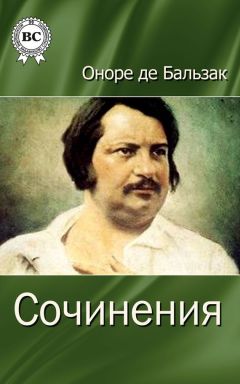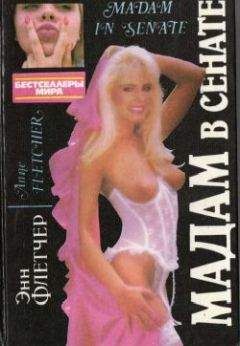– Наконец-то я узнаю тебя, мой бедный Цезарь, – сказала Констанс – Мы, кажется, достаточно скромно живем и можем позволить себе время от времени небольшое удовольствие.
– Имею ли я на это право! – воскликнул бедняга. – Ах, Констанс, твоя любовь – единственное еще оставшееся у меня сокровище… Да, я все потерял, вплоть до веры в себя, у меня нет больше сил, у меня одно только желание – дожить до того дня, когда я расплачусь с земными долгами. Но ты, дорогая жена, ты всегда была моим благоразумием и моей осторожностью, ты все предвидела, и тебе не в чем упрекнуть себя, – ты можешь быть веселой; из нас троих во всем виноват один лишь я. Полтора года назад, на нашем злосчастном балу, ты, моя Констанс, единственная женщина, которую я любил за всю свою жизнь, была, пожалуй, еще красивее, чем тогда, когда юной девушкой прогуливалась со мной по этой тропинке, где сейчас гуляют наши дети… И в полтора года я погубил эту красоту, которой с полным правом гордился. Чем больше я узнаю тебя, тем сильнее люблю… О дорогая! – воскликнул Цезарь с такой мукой в голосе, что Констанс была потрясена до глубины души. – Мне, кажется, было бы легче, если бы ты бранила меня, а не старалась смягчить мое горе!
– Никогда бы не поверила, – отвечала Констанс, – что после двадцатилетнего супружества жена может еще крепче полюбить своего мужа.
Слова эти заставили Цезаря позабыть на мгновение обо всех горестях и преисполнили счастьем его чувствительное сердце. Он почти радостно направился к их дереву, которое случайно уцелело. Супруги уселись под этим деревом, глядя на Ансельма и Цезарину; влюбленные кружили все время по одной лужайке и, видимо, этого не замечали, воображая, что идут вперед.
– Мадмуазель, – говорил Ансельм, – надеюсь, вы не считаете меня таким жадным и низким, что я воспользуюсь долей вашего отца в доходах от «Кефалического масла»! Я, правда, откупил ее, но с любовью сохраняю ее для него же и стараюсь приумножить. Я пользуюсь деньгами господина Бирото для учета векселей; а если попадаются иной раз векселя сомнительные, я их учитываю на свой риск. Мы можем принадлежать друг другу лишь после реабилитации вашего отца, и со всей силой любви я стараюсь приблизить этот день.
Ансельм остерегался посвящать в свою тайну даже будущую тещу. И самые простодушные влюбленные жаждут порисоваться перед любимым существом.
– А скоро этот день настанет? – спросила Цезарина.
– Скоро, – отвечал Попино. Он сказал это таким проникновенным тоном, что целомудренная, чистая Цезарина подставила лоб своему милому, и Ансельм запечатлел на нем жадный, но почтительный поцелуй – столько душевного благородства было в ее порыве.
– Папа, все идет как по маслу, – с лукавым видом шепнула она Цезарю. – Будь поприветливей, поговори с нами, перестань грустить.
Когда дружная семья вернулась в домик Пильеро, даже ненаблюдательный Цезарь заметил в обращении Рагонов какую-то перемену: что-то, очевидно, случилось. Г-жа Рагон встретила их с особенно умильным видом, взгляд ее и самый тон, казалось, говорили Цезарю: «Мы получили долг сполна».
К концу обеда явился нотариус из Со; пригласив его за стол, дядюшка Пильеро взглянул на Бирото, и тот почувствовал, что ему готовят какой-то сюрприз, хотя всей важности этого сюрприза угадать он не мог.
– Племянник, ты, твоя жена и дочь скопили за полтора года двадцать тысяч франков; тридцать тысяч я получил на конкурсе по моим претензиям; для расплаты с кредиторами у нас имеется, стало быть, пятьдесят тысяч франков. Господин Рагон получил на конкурсе тридцать тысяч франков, теперь господин нотариус принес тебе расписку в том, что ты полностью, с процентами, погасил свой долг друзьям. Остальные деньги находятся у Кротта и пойдут на уплату Лурдуа, тетке Маду, каменщику, плотнику и другим наиболее нетерпеливым кредиторам. Что принесет нам будущий год – видно будет. Терпенье и труд все перетрут.
Радость Бирото не поддается описанию; он со слезами бросился в объятия дяди.
– Пусть Цезарь наденет сегодня свой орден, – сказал аббату Лоро Рагон.
Духовник вдел красную орденскую ленточку в петлицу Цезаря, и тот раз двадцать в течение вечера подходил к зеркалу, чтобы полюбоваться собой; удовольствие, написанное на лице его, могло бы насмешить людей высокомерных, но невзыскательным буржуа оно казалось вполне естественным. На следующий день Бирото пошел к г-же Маду.
– А-а! это вы, почтеннейший! – сказала она. – До чего ж вы поседели! Я вас было и не узнала. Вашему брату, однако, особенно горевать не приходится: для вас всегда найдется теплое местечко. Не то что я, грешная, верчусь день-деньской как белка в колесе.
– Но, сударыня…
– Ну, это не в упрек вам сказано, – перебила она, – ведь мы в расчете.
– Я пришел сказать вам, что нынче у нотариуса Кротта я уплачу вам остаток долга, с процентами.
– Вы это всерьез?
– Будьте у нотариуса в половине двенадцатого…
– Вот это честность! все до гроша, да еще по четыре на сто! – воскликнула тетка Маду, с наивным восхищением глядя на Бирото. – Слушайте, папаша, я неплохо зарабатываю у этого вашего рыженького, он – славный малый, не торгуется, чтобы я могла покрыть свои убытки. Давайте-ка я выдам вам расписку, а деньги, старина, оставьте себе. Тетка Маду – горласта, тетка Маду – порох, но в груди у нее кое-что бьется! – воскликнула она, ударяя себя по самым пышным мясистым подушкам, когда-либо известным Центральному рынку.
– Ни за что! – ответил Цезарь. – В законе есть прямые на то указания, и я желаю уплатить вам сполна.
– Что ж, я не заставлю себя упрашивать, – сказала тетка Маду, – но завтра уж я протрублю на весь наш Центральный рынок о вашей честности. Днем с огнем такой не сыщешь!
Подобная же сцена, лишь с небольшим вариантом, произошла и у подрядчика малярных работ, тестя Кротта. Шел дождь; Цезарь поставил мокрый зонт в углу, возле двери. Разбогатевший подрядчик, видя, как по полу его красивой столовой, где он завтракал с женой, растекается лужа, не проявил особой любезности.
– Ну, что вам еще от меня нужно, папаша Бирото? – сказал он резким тоном, словно обращаясь к назойливому нищему.
– Разве ваш зять не говорил вам, сударь?..
– О чем? – нетерпеливо перебил Лурдуа, думая, что речь идет о какой-то просьбе.
– Чтобы вы пришли к нему нынче утром в половине двенадцатого, получили сполна все, что я оставался вам должен, и выдали мне расписку?..
– Ах, это другое дело… Присаживайтесь, господин Бирото. Не закусите ли с нами?..
– Доставьте нам удовольствие, – прибавила г-жа Лурдуа.
– Дела, стало быть, идут на лад? – спросил толстяк Лурдуа.
– Нет, сударь, чтобы скопить немного денег, мне приходилось завтракать одним лишь хлебцем; зато, надеюсь, со временем я возмещу ущерб, причиненный мною людям.
– Да вы и впрямь человек порядочный, – сказал подрядчик, отправляя в рот кусок хлеба с паштетом из гусиной печенки.
– А что поделывает ваша супруга? – спросила г-жа Лурдуа.
– Она ведает кассой и торговыми книгами у господина Ансельма Попино.
– Бедные люди! – тихо сказала мужу г-жа Лурдуа.
– Если я вам понадоблюсь, дорогой господин Бирото, – сказал Лурдуа, – милости просим, заходите, постараюсь помочь вам…
– Вы мне понадобитесь сегодня в одиннадцать часов, сударь, – сказал Бирото, уходя.
Такое начало придало банкроту мужества, но не вернуло ему покоя: слишком много треволнений вносило в его жизнь желание восстановить свое доброе имя. С лица его совсем сбежал прежний румянец, глаза потускнели, щеки ввалились. Старые знакомые встречали иногда Бирото в восемь часов утра, когда он шел на улицу Оратуар, или в четыре часа пополудни, когда он возвращался домой, – бледный, боязливый, совершенно седой, в сюртуке, который он носил со времени своего падения и берег, как бедный подпоручик бережет свой мундир; случалось, что кто-либо его останавливал, и он бывал этим явно недоволен: беспокойно оглядываясь, норовил, словно вор, проскользнуть вдоль стен незамеченным.
– Все знают, как вы живете, – говорили ему. – И все жалеют, что вы, ваша жена и дочь так себя изводите.
– Дайте же себе передышку, – уговаривали его другие, – ведь денежные раны не смертельны.
– Но душевная рана иной раз убивает, – ответил однажды старику Матифа несчастный обессилевший Цезарь.
В начале 1823 года был окончательно решен вопрос о сооружении канала Сен-Мартен. Цены на земельные участки в предместье Тамиль бешено взлетели. Канал по проекту должен был пройти как раз посредине участка дю Тийе, принадлежавшего ранее Цезарю Бирото. Компания, получившая концессию на прорытие канала, готова была заплатить огромную сумму, если бы банкир мог предоставить свой участок в ее распоряжение к определенному сроку. Но помехой делу был арендный договор, заключенный некогда Цезарем с Попино. Банкир явился на улицу Сенк-Диаман к торговцу парфюмерными и аптекарскими товарами. Дю Тийе относился к Попино с полным равнодушием, но жених Цезарины питал к нему безотчетную ненависть. Он ничего не знал ни о краже, когда-то совершенной удачливым банкиром, ни о гнусных его комбинациях, но какой-то внутренний голос твердил ему; «Этот человек – непойманный вор». Попино не стал бы вести с ним никаких дел, одно уж его присутствие было ненавистно Ансельму, особенно в ту пору, ибо он видел, как дю Тийе наживается на разорении своего бывшего хозяина: цены на участки в квартале Мадлен так поднялись, что можно было предвидеть их неслыханный рост, последовавший в 1827 году. Когда банкир изложил цель своего посещения, Попино посмотрел на него со сдержанным негодованием.