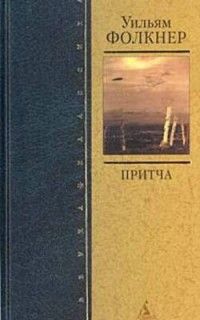Автомобиль вез трех генералов. Он ехал быстро, так быстро, что команды взводных и бряцанье винтовок, когда каждый взвод брал на караул, а потом по команде "вольно" опускал их к ноге, не только не прерывались, но и сливались друг с другом, поэтому казалось, будто автомобиль несется в неумолчном лязге металла, словно на невидимых крыльях со стальными перьями, - длинный, окрашенный, как самоходное орудие, автомобиль с развевающимся флажком главнокомандующего всех союзных армий; генералы сидели в автомобиле бок о бок в окружении блестящих, чинных адъютантов - трое стариков, командующих каждый своей армией, а один из них по общему решению и согласию командовал всеми тремя и, следовательно, всем, находящимся на этой половине континента, под и над ней - англичанин, американец, и между ними - генералиссимус: хрупкий седой человек с мудрым, проницательным и скептическим лицом, уже не верящий ни во что, кроме своего разочарования, своего ума и своей безграничной власти, - и люди ошеломленно застывали в изумлении и ужасе, а потом, когда под крики взводных снова раздавались стук каблуков и лязг винтовок, настораживались.
За автомобилем следовали грузовики. Они тоже ехали быстро, почти впритык друг к другу, и казалось, им не будет конца, потому что на них везли целый полк. Однако ни общих криков, ни отдельных приветственных восклицаний пока что не слышалось. Первый грузовик вызвал в еще не опомнившейся и не до конца верящей толпе лишь молчаливую суету, сумятицу; боль и ужас словно бы усиливались с приближением каждого грузовика, окутывали его и тянулись за ним; молчание лишь изредка нарушалось воплем какой-нибудь женщины, узнавшей одно из мелькающих мимо лиц - лицо проносилось и скрывалось, едва его успевали узнать, и крик, раздавшись, тут же тонул в реве следующего грузовика, и поэтому казалось, что грузовики несутся быстрее легкового автомобиля, словно ему, поскольку перед его капотом расстилалось полконтинента, спешить было незачем, тогда как грузовики, оставшийся путь которых можно было исчислять уже в секундах, подгонял стыд.
Открытые грузовики с высокими щелевыми бортами, будто предназначенные для перевозки скота, были набиты, будто скотом, разоруженными, измазанными окопной грязью солдатами; в их небритых, помятых лицах было что-то отчаянное и вызывающее, они стояли с непокрытыми головами, глядя на толпу так, словно никогда не видели людей или не могли разглядеть стоящих или по крайней мере узнать в них людей. Озираясь, будто лунатики в кошмаре, не узнающие никого и ничего, они старались запечатлеть в памяти каждый безвозвратно улетающий миг, словно их везли прямо на казнь, удивительно одинаковые, не вопреки, а благодаря тому, что у каждого были своя индивидуальность и свое имя, одинаковые не общностью судьбы, а тем, что каждый нес в эту общую судьбу свою индивидуальность, имя и еще нечто, сугубо личное: способность к тому одиночеству, в котором умирает каждый, - и словно не замечали быстроты, стремительности, с которой недвижимо мчались, будто призраки, привидения или плоские фигуры из картона или жести, торопливо бросаемые одна за другой на сцену, подготовленную к пантомиме страдания и безысходности.
И теперь послышался общий крик - негромкий вопль, начавшийся где-то на Place de Ville с приближением первого грузовика. Издали звучал он резко, пронзительно, протяжно, не злобно, но вызывающе и вместе с тем как-то безлично, словно люди не испускали, не издавали его, а лишь пережидали, будто внезапный шумный и безобидный ливень. Несся вопль, в сущности, от отеля, мимо которого теперь ехали грузовики. Трое часовых теперь стояли навытяжку под тремя флагами, уже поникшими, потому что утренний ветерок стих, старый генералиссимус остановил автомобиль, вылез, поднялся в сопровождении обоих генералов на каменные ступени и повернулся, оба генерала, седые, как и он, повернулись вместе с ним, они стояли ступенькой выше, чуть позади него, но на одной линии друг с другом, и, когда подъехал первый грузовик, взъерошенные, похожие на сомнамбул солдаты очнулись то ли при виде трех флагов, то ли трех стариков, уединившихся за переполненным бульваром, но все же очнулись и тут же угадали, узнали трех разряженных, расфранченных людей, не столько по близости к трем флагам, сколько по их обособленности, как узнали бы три чумные повозки в пустом центре перепуганного, спасающегося бегством города, или же троих выживших в городе, уничтоженном чумой, иммунных, невосприимчивых к болезни, разряженных, расфранченных и словно бы неподвластных времени, будто фотография, тускнеющая вот уже пятьдесят или шестьдесят лет; но солдаты в грузовиках очнулись и все как один закричали, грозя кулаками трем бесстрастным фигурам, крик подхватывали на других грузовиках, едва они подъезжали к отелю, и с криком неслись дальше, в конце концов последний, казалось, увлек за собой, подобно расходящейся туче пыли из под колес, облако отчаянного, безнадежного отрицания, наполненное кричащими лицами и грозящими кулаками.
Крик походил на пыль, еще висящую в воздухе, когда то, что подняло ее движение, трение, тело, сила, импульс, - уже пронеслось и скрылось. Потому что теперь весь бульвар был охвачен воплем, уже не вызывающим, а изумленным и неверящим, оба оттесненных вала сгрудившихся тел и печальных лиц зияли ртами, раскрытыми в исступленном заклинании. Потому что оставался еще один грузовик. Он тоже ехал быстро; хотя между ним и последним из проехавших было двести ярдов, он, казалось, несся вдвое быстрее остальных. Однако ехал он словно бы в полной тишине. Если другие проносились шумно, почти неистово, с вызывающим прощальным ревом стыда и отчаяния, этот приближался и удалялся торопливо, бесшумно, приниженно, словно тем, кто сидел в кабине, претило отнюдь не предназначение грузовика, а находящиеся в нем.
Он был открытым, как и остальные, и отличался от них лишь тем, что те были переполнены стоящими людьми, а здесь их было всего тринадцать. Такие же взъерошенные, неумытые, в окопной грязи, они были скованы, примкнуты цепями друг к другу и к грузовику, будто дикие звери, и с первого взгляда походили даже не на иностранцев, а на существа другой расы, другого вида; посторонние, чуждые, хотя на петлицах у них были те же номера, всему полку, который не только держался на расстоянии, но, казалось, даже бежал от них, чуждые не только своими цепями и обособленностью, но и выражением лиц, позами: если у тех лица были ошеломленными и пустыми, как у долго пробывших под наркозом, то у этих тринадцати - серьезными, сосредоточенными, сдержанными, настороженными. Потом стало видно, что четверо из тринадцати действительно иностранцы, чуждые - не только цепями, обособленностью от всего полка, но и лицами горцев в стране, где нет гор, крестьян, где уже нет крестьянства; чуждые даже остальным девяти, с которыми были скованы, если прочие девятеро были серьезны, сдержанны и немного - совсем чуть-чуть встревожены, трое из этих четверых иностранцев казались слегка недоумевающими, почти чинными, настороженными и даже не лишенными любопытства; они напоминали крестьян-горцев, впервые оказавшихся на рынке в равнинном городе, людей, внезапно ошеломленных гомоном на языке, понять который у них не было надежды, собственно говоря, и желания, и поэтому безразличных к тому, о чем галдят вокруг, - трое из четверых, потому что теперь толпа поняла, что четвертый чужд даже этим троим, уже хотя бы тем, что он был единственным объектом ее брани, ужаса и ярости. Почти не обращая внимания на остальных, она вздымала голоса и сжатые кулаки против - на этого человека. Он стоял впереди, положив руки на верхнюю планку, так что была видна цепь, провисающая между запястьями, и капральские нашивки на рукаве, с чуждым лицом, как и остальные двенадцать, лицом крестьянина-горца, как и последние трое, чуть моложе некоторых из них, и глядел на бегущее мимо море глаз, зияющих ртов и грозящих кулаков так же пристально, как и прочие двенадцать, но безучастно - лишь с любопытством, внимательно и спокойно, однако в его лице было еще и то, чего не было в остальных: постижение, понимание безо всяких следов сочувствия, словно он заранее предвидел без порицания или жалости тот шум, что поднимался при появлении грузовика и несся за ним.
Грузовик въехал на Place de Ville, где трое генералов стояли на ступенях отеля, словно позируя фотографу. Возможно, на сей раз дело было именно в близости трех флагов, внезапно затрепетавших под порывом дневного ветерка, налетевшего с другой стороны, так как никто из троих крестьян-горцев и, пожалуй, вообще никто из двенадцати не обратил внимания на смысл трех разных знамен и даже не заметил трех стоящих под ними стариков в галунах и звездах. Очевидно, взглянул, заметил, обратил внимание лишь тринадцатый; в их сторону был устремлен только пристальный взгляд-капрала, он и верховный генерал, чьего взгляда не уловил на себе никто с проехавших грузовиков, встретились глазами на миг, который не мог продлиться из-за быстроты движения, - крестьянское лицо над капральскими нашивками и скованными руками с мчащегося грузовика и серое непроницаемое лицо над звездами высшего чина и яркими лентами чести и славы на мгновенье впились взглядами друг в друга. Грузовик пронесся. Старый генералиссимус направился вниз, оба его собрата тоже, держась, как предписывалось этикетом, по бокам от него; когда блестящий, проворный молодой адъютант подскочил и распахнул дверцу автомобиля, трое часовых щелкнули каблуками и взяли на караул.