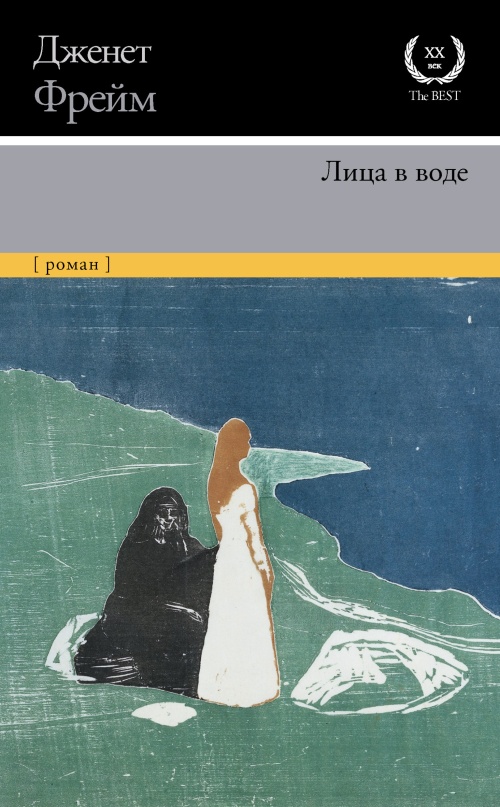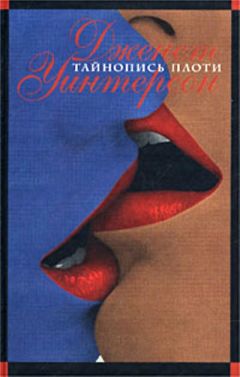который давал мне карточку, на которой было напечатано красным шрифтом «ПЕРВОЕ МЕСТО»; вместе с другими победителями, одновременно тараторившими, ронявшими вразнобой слова, мы заходили внутрь шатра, хлопавшего полотнищем на ветру, пропахшего опилками, где на столах были выставлены призы. У всех на виду, довольные, мы сдавали наши карточки. Эрик, как один из надежных пациентов (и каким-то образом естественный обитатель маленьких палаток, предлагающих сомнительной надежности аттракционы, которые окружают, словно почти белые полотняные горы, ярмарочную площадь передвижного шоу), стоял за одним из столов и выдавал призы.
«Я смотрел, – сказал он, передавая мне капроновые чулки, награду за первое место. – Побежишь со мной трехногую гонку?»
«Нет, – ответила я сдержанно. – Я уже Теду обещала».
Тед был бывшим воспитанником борстальского исправительного учреждения, теперь он работал в саду у главврача и по утрам помогал с флягами для молока. Он был коренастый и смуглый, и лицо его, казалось, всегда имело выражение лукавого восхищения собой и другими людьми. Непреодолимое желание прикоснуться к тому, чем он восхищался, и отправило его в борстальское заведение. Руки у него были большие и неуклюжие, как будто отдельные люди с собственной волей, и отказать им в праве трогать что-то было все равно что запретить скульптору работать с камнем. Тед, однако, скульптором не был; он был молодым человеком, которому нравилось дарить и получать обожание, и его пронырливое выражение лица было результатом его неизбывной тяги торговать восторгами, – ремесла, в которое он, без преувеличения, вложил свою жизнь.
В День спорта он участвовал во множестве соревнований и выигрывал, не умея сдержать своей радости, прыгал по полю, мешаясь у всех под ногами, и когда он подошел ко мне, я согласилась составить ему пару в состязании. Мы выиграли. Я пошла за очередной наградой.
«Я смотрел, – сказал Эрик, передавая мне капроновые чулки. – В следующем году побежишь со мной?»
Тем временем привезли напитки, не газировку в бутылках, как на танцах, а какой-то густой сироп кроваво-красного оттенка в емкостях, напоминающих канистры из-под керосина, который разливали по больничным чашкам и который оставлял красное пятно на донышке. Мы пили и возвращались за добавкой; нам разрешалось пить столько, сколько мы хотели, отсутствие рядом кого-либо, кто говорил бы: «Барышня, с вас достаточно», вызывало у нас гипертрофированное чувство восторга и, возможно, где-то на окраинах нашего сознания спящее чувство беспокойства о том, что у нашего самовольного пикника неизбежно будут последствия. Радостных, вели нас на обед во второе отделение, которое, как мы с потрясением обнаружили, совершенно не изменилось: из «грязного» зала по-прежнему доносились крики и ругань, а старшая медсестра Бридж по-прежнему громко объявляла: «В уборную, дамы!» – и вставала снаружи в караул.
Осознание того, что желание измениться не влечет за собой немедленных перемен, дается всегда тяжело. Почему второе отделение все еще существовало, когда мы весело кутили на лужайке перед главным входом, наслаждались праздником, рубиновым сиропом и мороженым? Почему мы считали, что, пока мы наблюдали за вереницей шелковых платков, фокусник перестал практиковать свои навыки обмана, а не довел их до такого уровня, что в конце концов мы отказывались думать, что это был обман?
Во второй половине дня прибывали врачи, их жены и дети, чтобы посмотреть на соревнования между сотрудниками больницы. Мы больше не участвовали в состязаниях, а были лишь зрителями, пристально рассматривающими странных людей, которые не были пациентами. По мере того как тускнело радостное возбуждение от пережитого за день, уходила эйфория, обнажая мусор обыденности, снова начинало расти чувство одиночества и подавленности: «В Кирпичный Дом, дамы», «В уборную, дамы», «В парк, дамы». Мы поняли всю правду о пикниках, танцах и днях спорта, как ребенок, который через некоторое время узнает настоящую цену обещаниям стоматолога убрать боль, положив «куколку на кукольную подушку, чтобы она спала у тебя во рту».
Руки, руки мои перепачканы, под обкусанными ногтями въевшаяся грязь, и моя борода, которая появилась еще в Батистовом Доме, теперь растет быстрее, но никто, кажется, не подозревает, что она у меня есть. Я затираю ее наждачными рукавицами, которые мне присылают мои родные, и одна из опасных задач для меня теперь заключается в том, чтобы прятать их на себе так, чтобы никто не смог ни о чем догадаться, и каждое утро зачищать лицо под покрывалом.
Я никчемна. Я худею. Я смотрю на свое отражение в зеркале в коридоре, на свою больничную юбку и больничный костюм, на свои пушистые волосы. Мне двадцать восемь, скоро будет восемь лет, как меня поместили в четвертое отделение. За морем умер король – музыку укрыли саваном, и Кэрол кричала, чтобы прекратили наконец изливать из радио, посаженного в клетку и запертого на замок, панихиды и чтобы сыграли «Волшебным вечером однажды».
Волшебным вечером однажды повстречаешь незнакомца… [17]
А потом короновали королеву, и по этому поводу в отделениях были организованы празднования, вечеринки и пирушки. Бренда играла на пианино в «чистом» зале, несмотря на то, что не желавший этого мистер Фредерик Барнс теперь совсем отказывался оставлять ее одну и ее протесты против его воли приводили к отвратительным проявлениям насилия и взаимным обвинениям в домашнем кругу ее разума. В тот день мы пили безвкусное мутное пиво, Кэрол спела для нас «Волшебным вечером однажды», «Провожая мою милую домой», а Хилари спела «На вершине Олд-Смоуки».
Где-то, где на горных склонах серебрится белый снег,
Я любовь свою утратил, потому что был несмел.
Минни Клив сыграла «Кэмпбеллов» и вся светилась от счастья, потому что нашла свой носовой платок; после недолгих уговоров миссис Шоу станцевала: у нее были громадные груди, которые свисали почти до колен, как пустые мехи, и пациенты, и медсестры находили забавным то, как они прыгали вверх и вниз во время танца. И Моди, которая была Господом, видя популярность номера миссис Шоу, тоже вызвалась станцевать, пропуская такты, натягивая носочки и демонстрируя свои красивые ноги, на которых прекрасно смотрелись бы бриджи царедворца. Она быстро начала задыхаться, но продолжала гарцевать.
«Моди, прекрати!» – крикнула Кэрол.
Моди вытянула свою карающую длань. «Низвергнуты будут», – предупредила она, снова перевоплощаясь в Господа.
«Так, – сказала медсестра, – кто еще хочет выступить в честь Дня коронации?»
«Я могла бы рассказать историю, – начала Большая Бетти, – но не на публику».
«А ты, Джули? – предложила медсестра. – Споешь?»
«Нет», – кратко ответила бородатая Джули.
Затем пришли главная медицинская сестра и доктор Стюард, улыбаясь благосклонной улыбкой всем обитателям комнаты одновременно. Главная