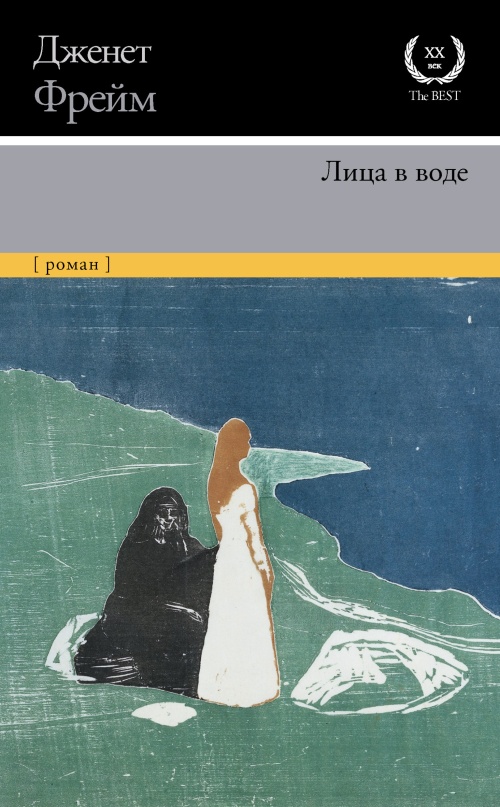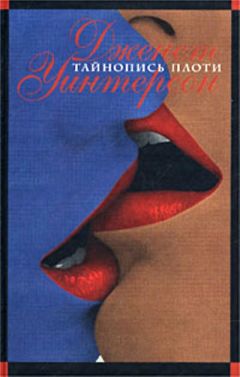сестра обратилась к Большой Бетти, которая полулежала на своем диване: «Ну что, Бетти, развлекаетесь?»
«Вот, молодые, – сказала Бетти, – просто ничего не хотят показывать в честь коронации».
«Ну что же вы, королева не каждый день восходит на трон, – упрекнула главная сестра ханжески. – Будьте добры, отдайте должное событию».
Солнце и тень не более чем обман; я ничему не доверяю; и я понимаю, почему мы боимся телефона, почему, даже перерезав кабель, поднимаем трубку и ждем, что заговорит голос, который нас пугает; и я понимаю, что такое зеркала, и пытаюсь отследить в их глубине точку, в которой мы становимся ничем: да, я смотрю в высокое зеркало в коридоре возле кабинета медсестры и знаю, что оно поставлено там, чтобы нас ловить, в точности, как ставят зеркала в огромных магазинах, чтобы охранник мог поймать нас, когда мы выбираем что получше или воруем в отделе, где продают нас самих. Кто теперь владеет нами? Разве преступление, когда мы воруем у себя? Я никогда не видела столько любви на складах; запертая, запечатанная и уцененная, она просачивается, проползает сквозь стены смрадным духом, оставляет запотевшими стекла, с которых ее стирают одним движением руки.
Теперь мне говорят «никогда», да, дорогая, вы никогда не выйдете отсюда, так что вам лучше начать принимать вещи такими, какие они есть; как если бы я была барахолкой, сама себе милостыней. Мне не делают ЭШТ, мне вообще не назначали процедуру с тех пор, как я покинула Трикрофт, и хотя страх перед ней никуда не делся, он живет где-то на отдалении; кроме того, врач дал обещание. И все же чувство безнадежности с каждым днем становится все сильнее. Я пытаюсь заключить с солнцем договор, достойный учебников по истории, который определял бы условия его сияния (в назидание остальным), согласно которым каждый день испепеленное небо должно прирастать новым облаком; прощение не так-то просто выразить. Утром солнце выдыхает на лужайку пар лимонного цвета и доски забора в парке покрыты пятнами ночной сырости. Может ли быть так, что солнце, эта котельная, – на самом деле тайный крематорий?
В своем кабинете за правой стенкой ящика старшая медсестра Бридж хранит коробку с барбитуратами, которые, согласно установленным требованиям, должны быть заперты в шкафу для ядовитых веществ. Я сама их видела. Видела однажды вечером, когда на дежурстве была не она сама, а ее заместитель, медсестра Клейк, которая сказала мне: «Истина, ты не сделаешь мне массаж ног и ступней?»
Я боялась медсестры Клейк. Она была замужем за мясником, и в лица их обоих – и медсестры, и ее мужа – проникла ослепительная мясная краснота. Что мешает мне прокрасться в кабинет по пути из столовой, схватить таблетки, проглотить их, заснуть глубоким сном и больше никогда не просыпаться?
Смерть, сказала я; она похожа на истину; с континента на континент мы перелетаем внутри этих двух слов, устроившись с комфортом, доступным в первом классе, но когда приходит время покинуть словесную оболочку и прыгнуть с парашютом туда, где скрывается смысл, – на темную землю и морские воды под нами, получается так, что то парашют не раскрывается, то мы застреваем на отмели или дрейфуем далеко от нашей цели, то, вглядываясь в темноту под ногами и охваченные страхом, отказываемся вовсе покидать имеющийся уют.
Я писала смерти: «Уважаемая Смерть! – начала я, придавая нашим отношениям официальную тональность, а лужайка и парк были усыпаны расточительно пролитыми остатками света. – Таблетки украла я».
«Вот дрянь, хочет, чтобы меня уволили. Я же знаю, зачем ты их стащила».
Потом были промывание желудка, черный кофе, до того как уснула, крики, крики на старшую медсестру Бридж, склонившуюся, с волосами, собранными и перевязанными, как сноп сена; потом наступил сон в заточении.
А затем наступило утро. Завтрак для Эсме и Кэтлин и звук пустых эмалированных мисок, брошенных в дверь; я ждала свою тарелку овсяной каши, кусок хлеба и кружку чая, но никто не пришел. Я слышала, как болтали работающие пациентки из первого отделения и как женщин из «чистого» зала повели в половине девятого на работу в Кирпичный Дом; Хилари пела «Если бы я была дроздом», а снаружи во дворе лаяли друг на друга близнецы, которые общались, как собаки.
Внезапно дверь отворили, и медсестра швырнула мне ночную рубашку и тапочки. «Надевай».
Я чувствовала, как мое сердце начинало биться быстрее, дыхание сбивалось с ритма, меня охватила паника, и я пыталась вспомнить свое секретное правило, которое придумала когда-то, чтобы сохранить рассудок.
Я запрещаю тебе, Истина Мавет, устраивать панику в маленькой закрытой комнате.
Медсестра вернулась с инвалидной коляской в сопровождении еще двух сестер, которые держались немного поодаль. Нужно было снова становиться изобретательной.
«Я сама пойду», – сказала я, и с таким же спокойствием я могла бы сказать, что сама полечу, поеду на гарпии, на летучей мыши, на пластиковой тарелке, на кенгуру, на слове, на блуждающей бактерии.
Какой же изобретательной нужно было быть.
«Можно мне самостоятельно идти?» – сказала я и больше не могла говорить ничего, истратив всю свою невозмутимость; в окружении трех медсестер я шла из Кирпичного Дома по дороге в наблюдательную палату. На процедуру. Проходя мимо «чистого» общего зала, я воспользовалась случаем и бросилась в окно, разбив стекло головой; был слышен звон и треск льда, и курсирующая по океану рыба, почуяв кровь, развернулась и взяла мой след. Спасатели занимались на пляже любовью; воздух был тяжелым от давивших на него тонн света.
По лицу текла кровь. Я сидела в инвалидном кресле, в процедурной. Вскарабкалась на кушетку и закрыла глаза.
«Дайте посмотреть», – сказал доктор Стюард, вытирая кровь.
Я заплакала. «Вы же обещали. Обещали».
Очнулась я в маленькой запертой комнате, где лежала на полу, на матрасе, под холщовым одеялом, на холщовой простыне. Там, в одиночной палате, я провела много дней.
Я вдыхала запахи комнаты, ходила по магазинам амбре: застарелой мочи, смешанной с бедой (это не был честный резвый запах еще не обученных младенцев, а был запах законсервированных и отверженных взрослых, у которых когда-то было знание, но которых его лишили), затхлой мастики, соломы и соломенной пыли, обделенности солнцем, углов, деревянной двери, в которую колотили руками и ногами вот уже семьдесят лет.
Каждое утро меня отправляли мыться (правило для больных в одиночных палатах), мою комнату быстро убирали (обычно это делала шваброй Кэрол), мою постель застилали, и к тому времени, когда я возвращалась, дрожа от холодного ветра, задувавшего вверх по бетонной лестнице, через затянутые металлической сеткой двери Кирпичного