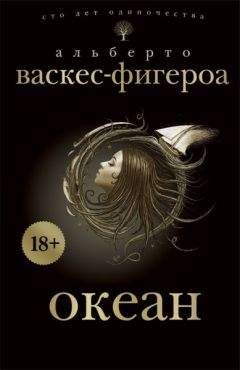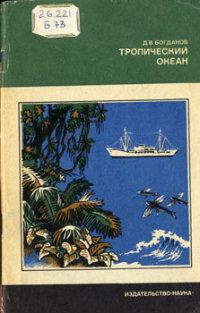Ознакомительная версия.
Так что приходится веселить себя такими малостями.
* * *
Стас зазвал меня в гости к своему знакомому – поэту Ефиму Черныху. Оставила у Ефима свои стихи. Обещал прочесть и позвонить. Но – ни звука. Ну, и ладно!
* * *
А потом Стас куда-то пропал – перестал приходить на репетиции.
Оказалось, он уже несколько дней в психушке на Каширке. Стас – талантливый парень, но пьёт, и в этом его беда. Говорит, что у него есть причина пить: развёлся с женой, и сильно тоскует о дочке. Вот, допился до белой горячки…
Еду навещать его на Каширку. Пообщаться можно в палисаднике у больничного корпуса. Палисадник за забором, который не перелезешь. Больных выпускают в этот палисадник под присмотром санитаров.
У Стаса там гитара. Пытается работать. Принесла ему свои новые стихи, он написал песню.
. Листья падают, запрокинув лицо…
. И колотит их дождь, как жестокий любовник.
. Огневое, бульварное, затяжное кольцо –
. Акварельный листок из чьего-то альбома.
. Осень, осень,
. Испета поэтами,
. Позаляпана вся чернилами…
. Осень строчками фиолетовыми
. Излюбили мы…
. Краской залита, смущена наготой
. И дрожит, как натурщица перед сеансом…
. У писак и художников
. снова сладкий запой –
. И ругают их мамы за горькое пьянство.
. Осень, осень…
. Испета поэтами…
В один из моих приходов Стас познакомил меня с Гошей, своим соседом по палате. Гоше восемнадцать, он художник. Очень здорово рисует. Два-три штриха – и портрет готов! Рисует левой рукой. Потому что правой (до локтя) у него нет. Он приехал в Москву поступать в художественное училище. Гоша из Симферополя, говорит, что лучшего города на свете нет. В училище он не поступил, очень переживал из-за этого, все дни проводил в храме, молился, пытался понять, что ему делать дальше, он мальчик очень верующий. Говорит, что вера помогла ему пережить смерть матери. Его привезли в психушку прямо из храма. Кто-то из «работников» храма вызвал «скорую», чтобы увезли «этого сумасшедшего фанатика».
Пишу стихи, посвящаю их Стасу и Гоше, Стас тут же подбирает аккорды, сидим в пыльном больничном палисаднике, окружённом частоколом забора, и тихонько напеваем:
И в этом замкнутом кругу,
Где санитаров уши,
Поверить в радость бытия
Велят уставшим душам…
Тебя здесь лечат от тоски,
Уже проевшей до кости,
Уже проевшей до кости…
И точно с финкой в животе –
В палатах этих тесных –
Мы так мучительно хотим
К своей неспетой песне!
Уже не петь бы, а кричать!
Но только велено -молчать.
Но только велено молчать…
Скулит в решётчатом окне
луны щербатый профиль.
И к нам нисходит сам Морфей,
Дурманящий, как морфий.
Нам снится старенький рояль…
Холсты белеют, как февраль,
Холсты сияют, как февраль…
На нас, наверное, лежит
Господнее проклятье.
Я постараюсь как-нибудь
До срока здесь не спятить…
А дальше я куда пойду,
Не нужный ни в каком дому?
не нужный ни в каком дому…
Песню мы так и назвали – «Неспетая песня».
* * *
В один из приходов на Каширку знакомлюсь с Гошиной тётей, которая навещает его. Тётя советует мне сходит в храм Николы в Кузнецах, послушать отца Всеволода Шпилера.
* * *
Идём в храм с Тишлер. Одна я как-то не решилась.
Пришли как раз к проповеди. Было воскресенье. Людей в храме – совсем немного: старушки и пожилые тёти.
Мерцание свечек и лампад, строгие лики икон – так таинственно и торжественно… Никогда ещё я не была в храме.
Отец Всеволод Шпилер. Мудрый, прекрасный старец… С глазами, полными печали, света и какого-то нездешнего покоя. Просто он всё ЗНАЛ. Знал, как будет потом – после… И – не боялся. И хотел, чтобы мы тоже не боялись.
Он говорил так просто, тихим голосом, без всякого пафоса, он обращался к каждому из нас. И ко мне тоже. Он стоял совсем близко, и каждому взглядывал в глаза. Он говорил о самом главном, о том, что меня волнует больше всего – о бессмертии души, о жизни после смерти… О том, что с этой, земной жизнью, жизнь не кончается… И о том, как вера преображает жизнь и наполняет её светом… Я слушала его и думала о тех, кого люблю, и кого потеряла: о лётчике дяде Павле, которого я обожала в детстве, а он разбился… О дяде Роме из Оренбурга, который дружил со мной, восьмилетней девочкой, и катал меня на своём старинном мотоцикле… дядя Рома был такой весёлый, а потом взял и умер… И тот, и другой как будто стояли сейчас рядом со мной в этом прохладном, полутёмном храме. Казалось: можно окликнуть их – и они отзовутся… Но даже и окликать не надо было, так ощутимо было для меня их присутствие. Только в эти минуты, впервые в жизни, я думала о смерти дорогих мне людей без горечи и протеста…
Это был праздник Преображения.
Мы бродили с Тишлер весь день по солнечной, августовской Москве, переполненные услышанным, не в силах расстаться и разъехаться по домам. (Дома о том, что мы были в церкви, рассказать было некому).
А вечером мы зашли ещё в один храм – в Брюсовском переулке. Была изумительно красивая служба… пение – почти ангельское… горячее пламя свечей… томительный запах ладана…
Когда вышли на тёмную улицу, Тишлер решительно сказала:
– Я больше в церковь не пойду!
– Почему?
– Так, чего доброго, можно и в Бога поверить!
– Почему тебя это пугает?
– Не знаю. Но пугает. Я как-то не готова к этому…
…Нет, я не стала вот так сразу христианкой и активной прихожанкой. Ещё многое должно было случиться – для того, чтобы это произошло. Но я почувствовала, что в моей жизни появилось ещё одно измерение. Как будто распахнулись двери в какую-то иную реальность…
Я пока стояла на пороге, не решаясь сделать шаг дальше. Даже не помышляя о том, что предстоит делать ещё какие-то шаги…
* * *
Последняя встреча с Моим Клоуном.
Прихожу опять на репетицию. Это уже конец августа.
Увидев меня, он спрыгивает со сцены, бежит по проходу мне навстречу:
– Где ты была? Почему так долго не приходила? Я соскучился!
– Сценарий писала.
– А для меня там есть роль?
– Нет… к сожалению. Там все герои положительные.
С ехидной улыбкой:
– Что же это за сценарий – без меня, негодяя?
Посмеялись. Но было видно, что его это задело.
Познакомил меня с пареньком, которого взял вместо меня к себе в театр – на микро-роли.
– Вот, ты не захотела, пришлось его взять. А я хотел, чтобы ты у меня работала.
Паренька звали Игорем. Он изумлённо уставился на меня:
– Послушай, а ты почему отказалась? – спросил он, когда Лёня отошёл от нас. – Не захотела в театр к самому Енгибарову?!
– У меня уже программа готова. На целый вечер в манеже.
– А… Так тебе надо показаться Анатолию Ивановичу Бойко.
– А это кто?
– Режиссёр оригинального жанра. Он готовит номера для эстрады и цирка.
– Но у меня уже всё готово!
– Но показаться-то кому-то надо? Тебя ж так просто никто не выпустит. Он тебе что-нибудь подскажет.
– Ты прав. Показаться кому-то надо…
…Я ещё посидела в первом ряду, посмотрела… Он то и дело присаживался рядом, когда на сцене репетировали другие. Жалела ли я, что отказалась идти к нему в театр? Нет. Теперь, когда решение уже было принято, я успокоилась.
Я думала: ничего, я ещё ему докажу, что я тоже кое-что могу… Он увидит, какая я хорошая ученица. Мы ещё встретимся на каких-нибудь жизненных перекрёстках… всё ещё только начинается!…
Ушла по-английски, не прощаясь.
* * *
Последнее стихотворение того лета…
. Уж я стихов давно Вам не пишу…
. Не обольщайтесь, мой актёр.
. Молчу, как будда.
. Лишь за окном сухой метельный шум…
. И плач, и хохот в обгоревших трубах…
. С вечерней колокольни слабый звон…
. Под пеплом, пылью вещи и паркеты.
. Тактичен, ненавязчив телефон.
. Не беспокоят письма и приветы.
. Ужасно весело!
. Как много в доме стен,
. И тень моя –
. во всех углах распята…
. Не ад. Не бред. Не обморок. Не плен.
. А день обычный…
. И на выбор – дата.
ОСЕНЬ-ЗИМА: ПОМЕШАТЕЛЬСТВО НА ПАНТОМИМЕ
Ознакомительная версия.