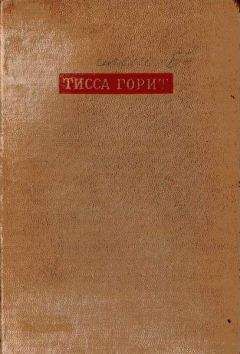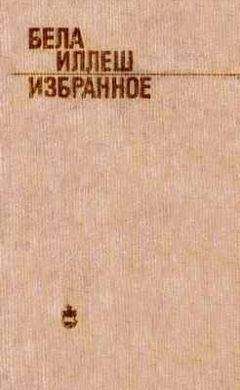— Одевайтесь. Вы пойдете с нами.
— Куда? — спросил я скорее удивленно, чем испуганно.
— Не спрашивайте, а одевайтесь и следуйте за нами.
Пойтек немедленно поспешил мне на помощь.
— Тут, повидимому, какое-то недоразумение, — вмешался он. — Петр Ковач — политический эмигрант и имеет соответствующее…
— Не ваше дело, — оборвал его сыщик. — Петр Ковач пойдет с нами, а вы ложитесь и не суйтесь не в свои дела.
Пойтек замолчал, но не лег.
Пока я одевался, он стоял рядом со мной, босой, небритый, в рваной грязной рубашке. Он был бледен, и взгляд умных карих глаз печален. В комнате было холодно. Пойтек дрожал, но лег только тогда, когда поджарый сыщик закричал на него:
— Пойдите вы к чорту! Чего вы тут точно в почетном карауле торчите!..
Пока я одевался, сыщики просмотрели удостоверение нашего четвертого сожителя. Оно ничем не отличалось от моего, тем не менее они нашли его в полном порядке: дело, стало быть, было не в документе, а во мне самом. Зачем понадобился я этим мерзавцам?
Прежде чем тронуться в путь, один из сыщиков удостоверился, — очень, впрочем, поверхностно, — не спрятал ли я чего- нибудь в постели; другой же спросил, где мои вещи, и неодобрительно покачал головой, услышав, что никаких вещей у меня нет.
— Пошли.
На извозчике меня доставили в здание Центрального полицейского управления, а там, без предварительного допроса, посадили в одиночную камеру. Камера оказалась сравнительно уютной. Кровать, ожидавшая меня там, была во всяком случае гораздо удобней моей кровати в бараке. Мне сильно хотелось спать, но, несмотря на хорошую кровать и тишину, заснуть не удалось. Я тщетно ломал себе голову, зачем я им мог понадобиться. Уж не из-за готтесмановской ли красной армии? Но ведь все это совершенно несерьезно. Или, быть может, это дело рук сестры Драги? Но что могла про меня сказать госпожа майорша? Или с Анталфи стряслось что-нибудь неладное, а так как я получил от него на пальто…
Уже рассвело, когда усталость, наконец, взяла свое. Я не успел выспаться, как явился тюремный надзиратель, неся миску с похлебкой. Я умылся, оделся и, поев похлебки, улегся, одетый, на кровать и снова заснул.
Вскоре надзиратель разбудил меня.
— На допрос!
Меня повели к полицейскому офицеру. В жизни еще не встречал я таких вежливых полицейских.
— Садитесь, пожалуйста. Курите?
— Нет, спасибо.
— Как вам угодно. Но если вы не хотите взять у меня папиросу только потому, что вы в обиде на меня за свой арест, то вы неправы. Ваш арест — дело не моих рук, освобождать же вас буду я. Но, конечно, — этого я не собираюсь оспаривать, — вы, как и всякий арестованный, вправе направлять ваше негодование именно на меня. Ваша прославленная демократия дает вам на это право.
В левой руке он держал папиросу, в правой же у него был лист бумаги.
«Вероятно, сведения относительно меня», — мелькнуло у меня в голове.
Несколько секунд мы молча разглядывали друг друга.
Полное лицо полицейского носило очень приветливое выражение, и это впечатление еще усиливалось благодаря коротко остриженным, почти совершенно седым волосам.
— Ваша знаменитая демократия… — повторил он, видя, что я как будто не намерен ему отвечать. — Вы, быть может, плохо понимаете по-немецки? — спросил он после некоторой паузы. — Ну-с, я попытаюсь говорить попроще. Вы безработный?
— Да.
— Получаете пособие?
— Нет, не получаю.
— Гм. Значит, вам приходится жить в очень плохих материальных условиях? Бедность не порок, а потому скажите мне откровенно: очень туго приходится?
— Да.
— Не обижайтесь на вопрос: на что же вы, собственно, существуете?
— Я и сам, по правде сказать, не знаю, на что живу.
— Так-с, не хочу быть назойливым. Простите, если задал вам щекотливый вопрос… Итак, поскольку вы живете в чрезвычайно скверных материальных условиях, вам, естественно, хотелось бы получить какую-нибудь работу? Так ведь?
— Конечно.
Полицейский погрузился в глубокую задумчивость. Он сидел спиной к окну, так что свет падал на меня, его же лицо оставалось в тени. Он закурил новую папиросу, затем вынул часы и долго смотрел на них. Мы оба молчали.
— Итак, вы ищете работу? Вы, надеюсь, не очень разборчивы?..
— Нет, я не разборчив.
— Прекрасно. В такое трудное время и нельзя быть особенно разборчивым. Впрочем, работа, которую я собираюсь предложить вам, при настоящих условиях является одной из лучших. Нельзя даже сказать, чтобы это была очень тяжелая работа. Необходимо некоторое знание людей, безусловная честность — и ваша работа окажется полезной и для вас и для общества. К тому же мы будем вам вполне прилично платить…
Он опять выдержал паузу, но теперь я уже не стал дожидаться, пока он снова заговорит.
— Если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы я стал полицейским шпионом?
— Полицейским шпионом! Какое некрасивое выражение! Хотя оскорбительный привкус слова «шпион» давно уже отошел в прошлое. Во время войны наиболее героическую работу выполняли именно шпионы. Но, во всяком случае, вы правы: я хочу ходатайствовать перед государственной полицией именно в том направлении, чтобы она приняла вас в число своих сотрудников. Работать у нас и легче и прибыльнее, чем на фабрике, не говоря, уже о том, что работу на фабрике у нас, в Австрии, вы вряд ли получите. С тех пор, как началась эта самая демократия, здесь столько безработных… Словом, вы вряд ли можете надеяться в ближайшие год-два получить работу на фабрике. А нельзя ведь до бесконечности жить дружеской поддержкой, в особенности, когда сами друзья не миллионеры. На то же, чтобы вновь начать существовать за счет большевизма, вы, как умный человек, надеюсь, не станете рассчитывать. Большевизм — это дело прошлого. Венгерские коммунисты раз навсегда скомпрометировали в Европе идею революции. Русская революция тоже близится к концу. Словом, я не преувеличиваю, говоря, что единственная серьезная возможность для вас вернуться в человеческое состояние, — это поступить к нам на службу? Что до подробностей…
— Мне подробности не интересны, я честный человек.
— Знаю. Именно поэтому я и предлагаю вам поступить к нам… Или вы, быть может, полагаете, что наша работа недостаточно честна? Так, что ли? Гм. Ну, ладно. Не будем спорить. Теперь ведь демократия! Демократия дает вам право считать мою профессию нечестной, меня же лишает права требовать удовлетворения за обиду. Впрочем, в данном случае я и не добиваюсь удовлетворения. Я знаю, что прав, — и это для меня высшее удовлетворение.
Он улыбнулся, и я понял, что он играет мною, что вся его приветливость направлена на то, чтобы сделать меня податливее. Меня так и подмывало чем-нибудь запустить в него.
— Вы, друг мой, еще очень молоды и считаете важным многое такое, что люди более зрелые уже не могут, да и не хотят принимать всерьез. Уже целый ряд коммунистов более зрелого возраста предложили нам свои услуги…
— Неправда! Клевета! Ложь!
— Ложь? Ну, как знаете. Я хотел вам только добра, но если вы мои намерения принимаете иначе… Я, знаете ли, принял вас с такой любовью только потому, что при виде вас вспомнил о сыне. Сын мой, примерно одних лет с вами, в русском плену, где-то в Сибири, бедненький! Увидев вас, я подумал… Мой бедный Курт, может быть, также нуждается в помощи. Я поэтому решил пойти вам навстречу, надеясь, что всевышний тогда сделает так, чтобы и у моего сына оказался покровитель. Но вы отталкиваете руку помощи, которую я вам протягиваю. Что же я могу тут поделать! Не силой же заставлять вас принимать от меня помощь…
На минутку я подумал, что был несправедлив к этому человеку и что он действительно считает предложение, сделанное мне, благим делом. Но эти мысли тотчас же исчезли, потому что полицейский продолжал:
— Правда, я был немного несправедлив к своему сыну, сравнивая его с вами. Мой сын никогда не падал, да ни при каких условиях не падает так низко, чтобы быть на содержании у женщины, чтобы жить на деньги своей любовницы, как это делаете вы.
— Как?
— Полиции, друг мой, все известно. Будьте уверены, мы знаем также, что вы злоупотребляете правом убежища и вербуете здесь людей для красной армии. Мы знаем, что вы ходите в кафе на деньги студентки из Югославии, и для нас не является тайной, что на средства этой барышни вы приобрели себе зимнее пальто. Не вскакивайте, мой друг, прошу вас сесть и успокоиться. Я больше не стану касаться этих неприятных тем и не собираюсь журить вас… Но если уж вы отказываетесь от моей помощи, то выслушайте, по крайней мере, совет: никогда и ни при каких обстоятельствах не забывайте о человеческом достоинстве. Что сделано, то сделано, но в будущем постарайтесь лучше оберегать свое человеческое достоинство. Это я вам отечески советую, от чистого сердца. Ну, а что касается остального, то если вы обязательно хотите работать на фабрике — странный вкус! — то, может быть, я сумею вам в этом помочь, хотя вы и вели себя в отношении меня далеко не так, чтобы заслужить мою помощь. Ну, да бог с вами… Вы, значит, хотите работать на фабрике? Ладно. Но работы на фабриках у нас, в Австрии, нет. Ничего не поделаешь. Поэтому помочь вам я могу только тем, что предоставлю вам возможность выехать туда, где легче получить работу, где нужны фабричные рабочие. Куда вы хотите ехать — в Чехо-Словакию или в Югославию?