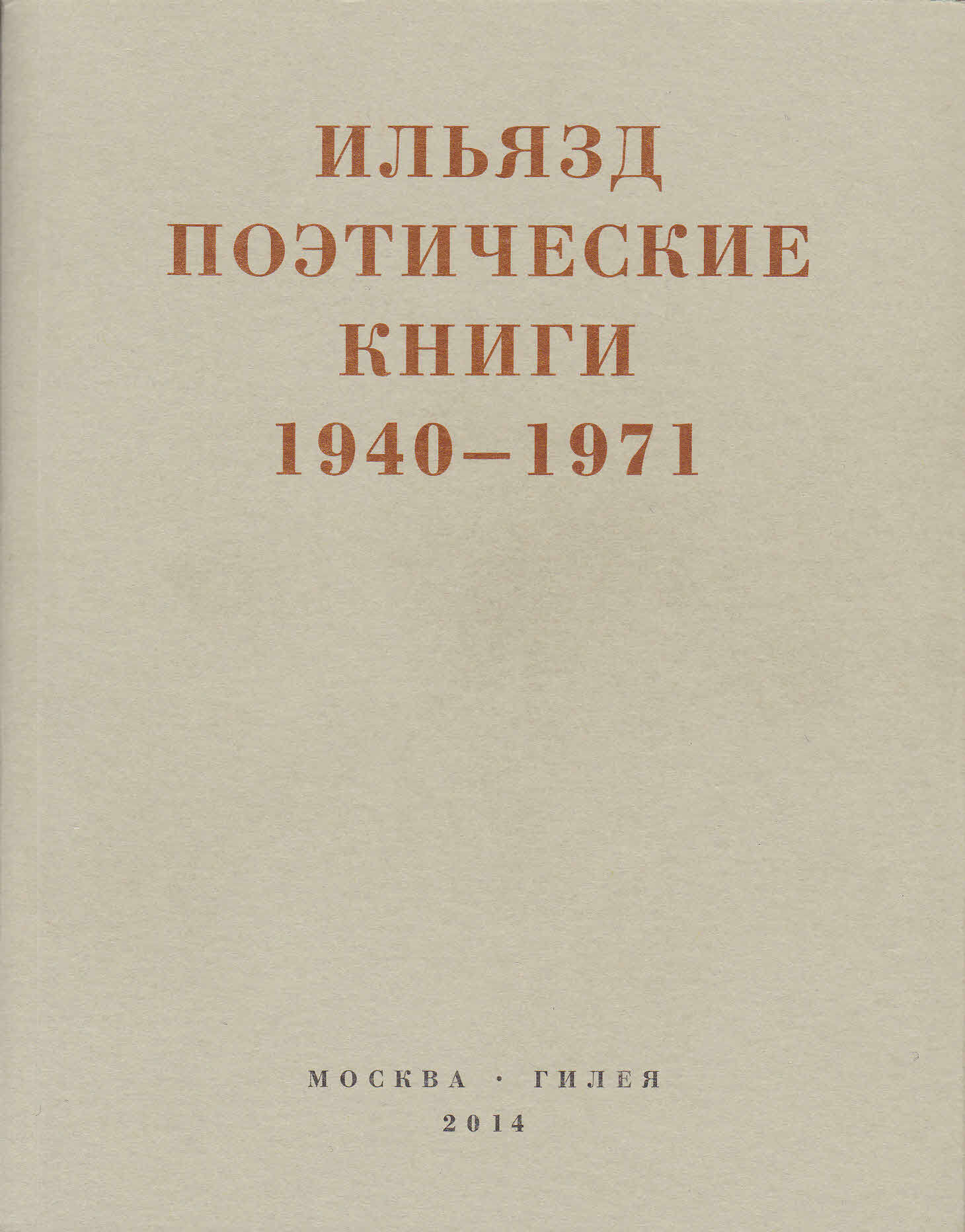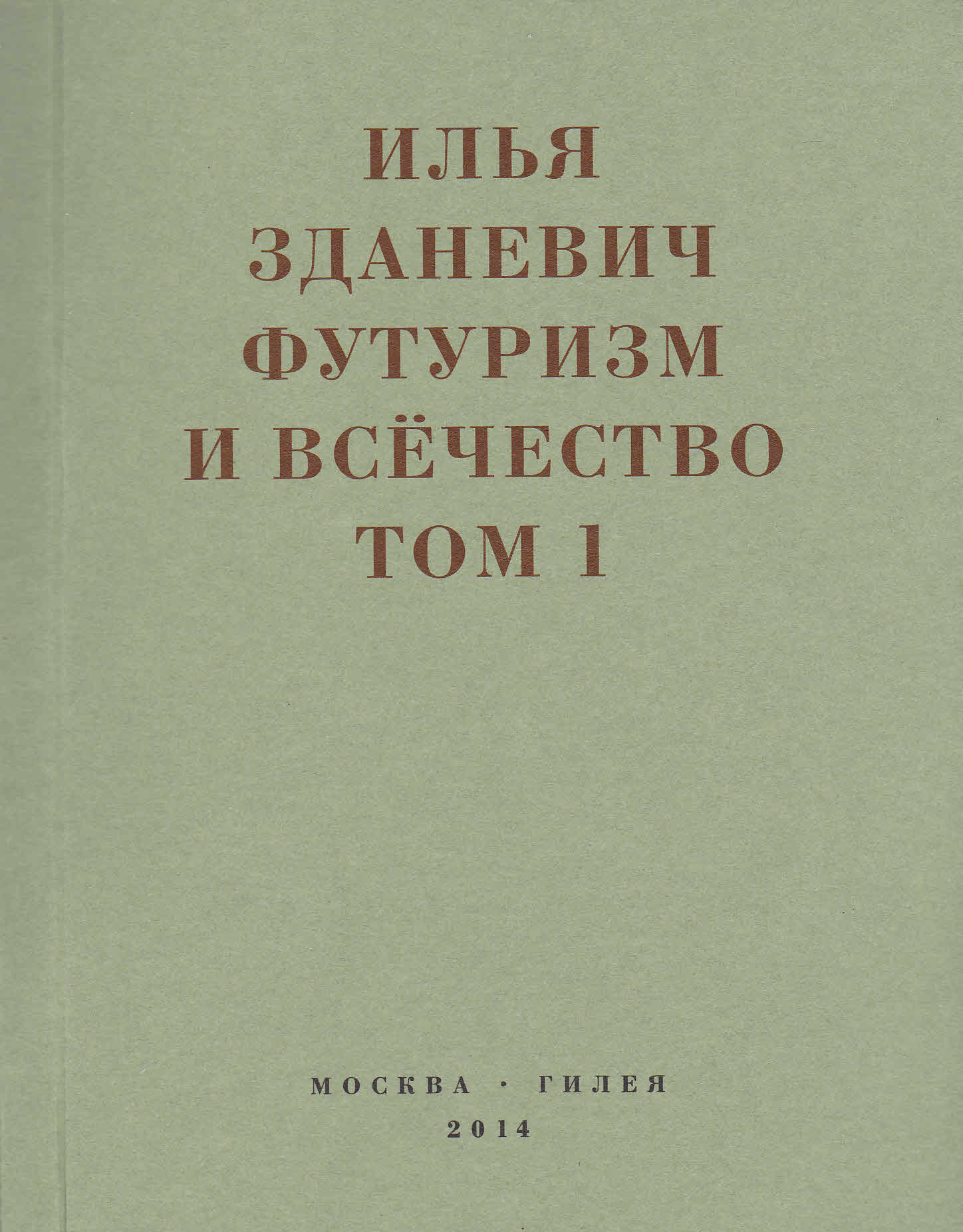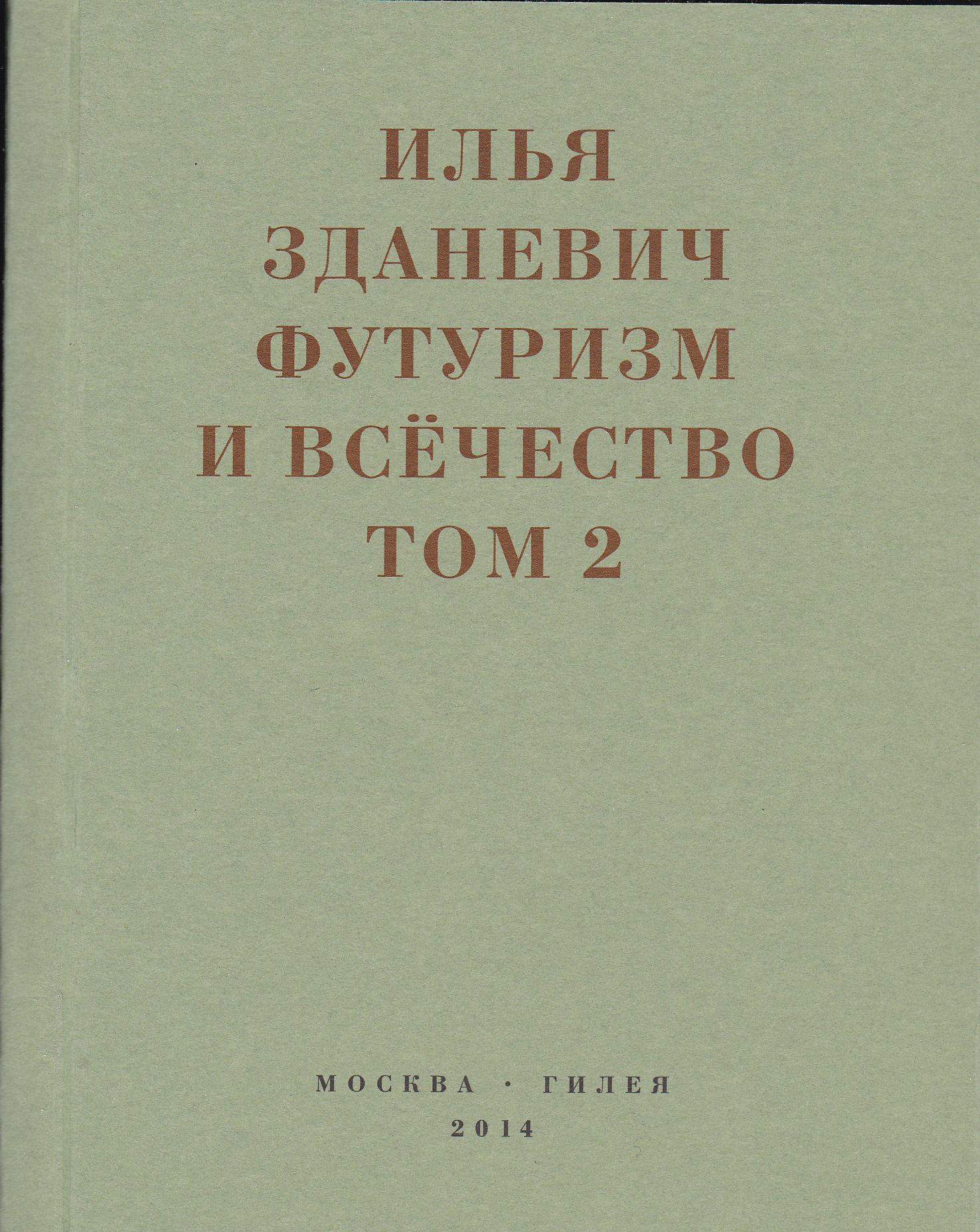нижняя часть тела этих дервишей не зависели от верхней. Тогда как нижний конус-юбка замедлял движение и вдруг замирал, верхний продолжал вертеться и раскачиваться [сам] по себе, и снова нижний вступал в игру, скорее, в борьбу с верхним.
– Это волчки, – пояснил Баба. – Мир есть вращение и борьба зла с добром, которое есть не что иное, как отражение одним другого, плюс и минус, конус вершиной вверх и конус вершиной вниз, два треугольника, касающиеся в одной точке, Боге.
Но волчки уже уступили место другим. У этих одежды были коротки и коротки рукава, показывая их ноги и руки. Один, поместившись посередине, запел [231], и под его поэму они пошли цугом вокруг, выводя ногами и руками различные жесты, и каждая рука и каждая нога – разное, но все – одни и те же движения. Чтение [232] становилось гортанным, глухим, и ноги топотали самые резкие уродливые движения, голос становился плавным и гласным и над окоченевшими ногами плавали руки, трепетные и невесомые.
– Запомните, о чём хотите спросить, но не спрашивайте здесь, спросите потом, а то обнаружат, что вы христианин, – сообщил Ильязду Хаджи-Баба.
Но появление следующих вызвало необычайное движение в толпах. Очевидно было, что эти представляли какое-либо новшество, что-то особенное, и сам Баба вытянул вперёд сухую шею, стараясь получше разобраться. На них были одеты не войлочные, а барашковые колпаки, и их суконные рясы зелёного цвета и непостижимого покроя придавали этим великанам дикий и устрашающий вид. Каждый из них держал в руке шашку в ножнах (невероятное вооружение для дервиша), и они выступали на цыпочках, почти вприпляску следуя друг за другом. И сколь ни был Ильязд близорук и загнан далеко Бабой, он без труда узнал в предводителе Синейшину.
Вооружённые сделали круг, разбились попарно и начали биться на шашках. Время от времени одна сторона падала на колени, побеждённая, но все одновременно, тогда менялись местами и начинали вновь биться. Среди воцарившейся удушающей тишины стук шашек раздавался то учащаясь и усиливаясь, то затихая.
– Что это за монахи? – спросил Ильязд. Хаджи был в затруднении.
– Эти призывают к священной войне за ислам, как я понимаю, но я, да и, думаю, все присутствующие, видят эту секту впервые, и я не знаю, откуда они свалились. Кавказцы!
Но вояки, покончив с экспозициями, не удалились, и движение и ропот удивления подчеркнули жест Синейшины, когда тот не вошёл в толпу, а вдруг направился к мектебе [233] и, быстро поднявшись наверх, обратился к присутствующим с речью.
Он не заслуживает-де осуждения, выступая в такой момент с речью, так как на это его побуждают необычайные обстоятельства. Мусульмане, берегите Софию. Не думайте, что если грекам не удалось её захватить недавно, опасность миновала. Верующие, нам угрожает ещё большая опасность. Россия, не сумев силою захватить Стамбул и осуществить свою мечту, решила путём измены и обмана добиться того же. Для этого она выдумала большевизм, нарочно придумала Белую армию, нарочно сделала вид, что существует между ними разлад, и нарочно, сыграв в поражение Белой армии, прислала сюда – под видом мухаджиров [234] – двести тысяч солдат, которых теперь снабжают оружием. Мусульмане, завтра, когда снаряжение этих якобы ищущих здесь гостеприимства будет закончено, одна армия в одну ночь займёт Стамбул, и прежде всего Софию, которая будет святотатственно превращена в русскую церковь. Мусульмане, берегите Софию, помешайте русскому заговору.
Сперва тишина, а потом гул тысяч голосов были ответом на пламенную речь Синейшины, потом, подняв руку, потребовал вновь сло́ва:
– Они пришли к нам с видом нищих, изголодавшихся, убогих. Вы встретили их с любовью, словами помощи, вы кричали на улицах: русский – это хорошо. Чтобы усилить ваши естественные симпатии к тем, кто вчера были злейшими нашими врагами, а сегодня прикинулись нищими, правительство их послало некоторую помощь Ангоре против греков. И вот, усыпив окончательно ваше внимание, они приступили к работе.
Мусульмане в окрестностях Айя Софии складывают оружие, медленно подвозят каждую ночь, чтобы в нужную минуту вооружить десятки тысяч. О, русские, мы знаем их за зверей, за варваров, мы знаем их за кровожадных зверей, за безжалостных казаков, за насильников, за грабителей на большой дороге, за пьяниц и пачкунов. Но мы не знали, что все эти качества они превосходят по силе притворства. Они развернули перед вами картину окончательного падения, пооткрывали в всех концах Стамбула увеселительные заведения и дома свиданий, где их обнищавшая знать убирает тарелки или предлагает себя без различия пола к услугам за некоторое вознаграждение. Какая достойная слёз картина. Но за этой жалостной декорацией скрывается железная подготовка, в подвалах столовых складываются ружья, в домах свиданий их женщины продаются, чтобы лучше наладить дело, и, проснувшись в одно несчастное утро, вы увидите развевающимся на башнях трёхцветный флаг [235].
Даже величие сегодняшней ночи попрано ими. Даже сюда не постеснялись они проникнуть. Сейчас в нашей среде находится русский, который слышит всё, наблюдает за нами, изучает путь, по которому они собираются водрузить на Софию крест. Ищите его и предайте смерти.
Резким движением Хаджи-Баба заставил Ильязда подняться и бросился по галерее, увлекая за собой последнего. В поднявшейся невообразимой каше, так как находившиеся на хорах бросились вслед за ними к лестнице, пытаясь пробраться вниз, чтобы принять участие в охоте на русского, их бегство вышло вполне естественным. Но пока внизу толпа бушевала и наполняла мечеть резкими криками, а те, что были на хорах, текли вниз, Хаджи увлёк Ильязда в самый конец галереи, где были сложены книги и нагромождены сундуки, желая спрятать Ильязда за хламом. Но после минуты раздумья он окрикнул Ильязда и потребовал, чтобы тот вышел:
– Плохое убежище. Двери закрыты и здесь они вас найдут несомненно. Единственное твоё спасение – смешаться с толпой. Я останусь рядом, пока моё соседство не будет показателем, Мумтаз-бей знает, что ты живёшь у меня. Бежим, ты достаточно похож на турка, чтобы в толпе можно было узнать. Если угодно Аллаху. Аллаху.
Они снова бросились бежать вдоль беговой галереи, направляясь к лестнице. Не успели они добежать, а принуждены были остановиться, как остановились и замерли все вокруг них, поражённые зрелищем. Напротив, в северной галерее, отведённой под склад и где молящихся не было, на перилах стоял офицер в тёмных штанах, но белой рубахе, делавшей его особенно видным, с длинной светлой бородой, падавшей ему на грудь и громко кричал тысячной толпе по-французски:
– Вот я, русский, ловите меня!
Молчание сменилось воем и криками, и все бросились к лестницам, где началась невероятная давка. Хаджи-Баба грузно сел на пол с явным облегчением. Но Ильязд остался стоять замертво: в русском он без труда узнал преобразившегося Синейшину.
А Синейшина бросился вдоль