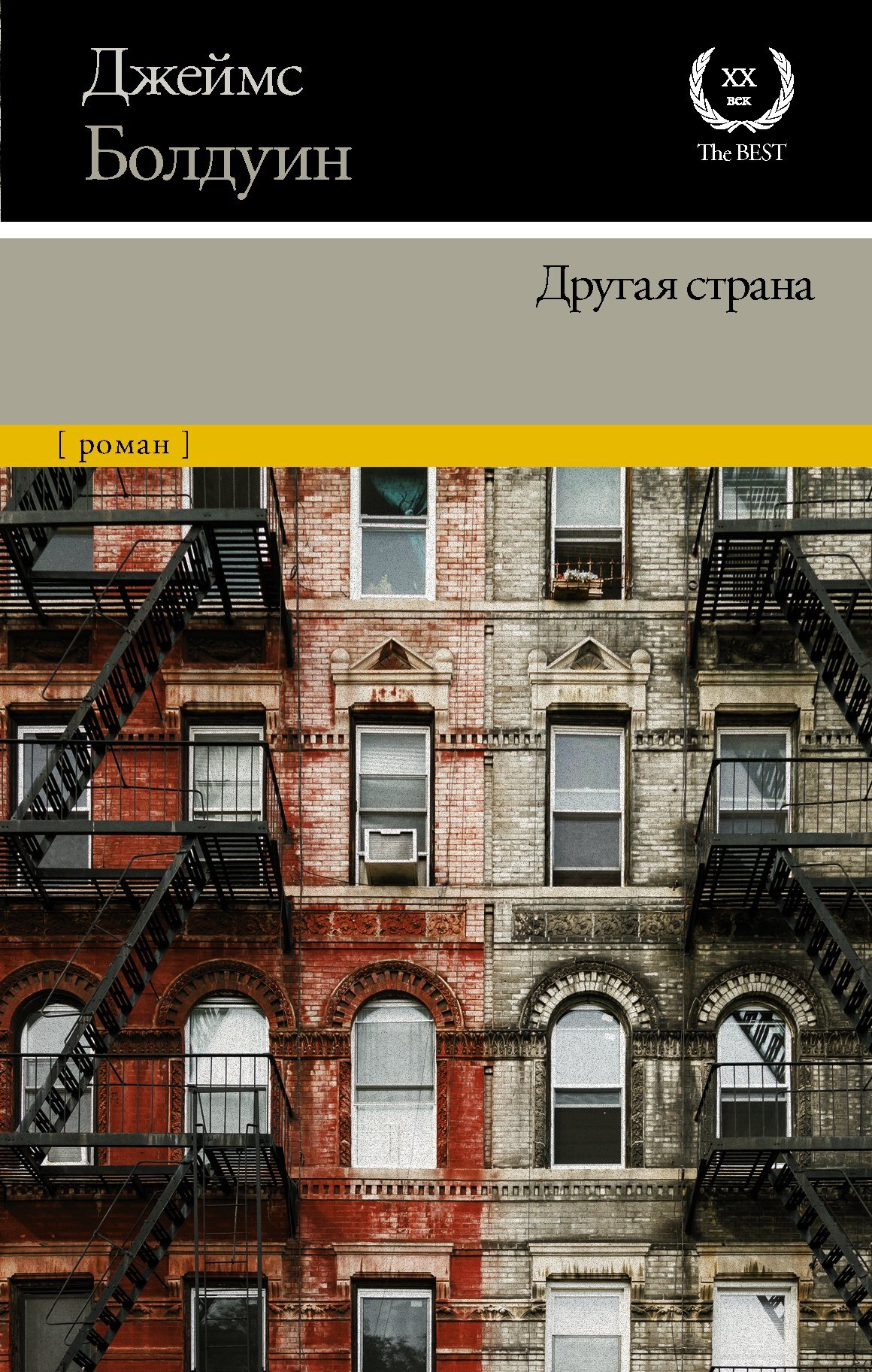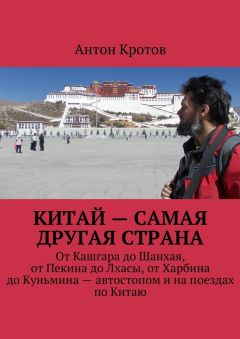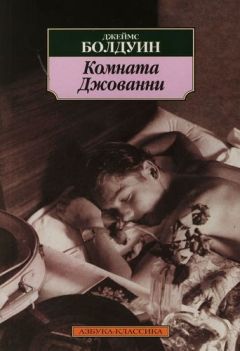чего от него ждут, борясь с постоянно одолевающим их страхом, желанием, настигающим врасплох и медленно отравляющим; эти люди жили словно в полутьме, тела их были налиты тяжестью, словно у утопающих, и облегчение они могли найти только в постыдной, оскорбительной темноте – действуя торопливо и чувствуя отвращение к себе и к самому акту. Они исчезали, победив приступ болезни, но сама болезнь оставалась. Проходили дни, недели или месяцы, прежде чем они снова – в пустой раздевалке или на лестничной клетке, на крыше или в парке, пристроившись у стены или в меблированной комнате уехавшего друга – украдкой предавались осуждаемой, презренной и анонимной любви, ее ласкам, поцелуям, объятиям. Но неодолимая тяга не сводилась только к физическому удовлетворению. Нельзя сказать, что их привлекали именно мужчины. Просто они не были активны в любви – они только позволяли себя любить. Их мучила именно эта жажда играть пассивную роль, получать то, что не было даровано им природой – незаконное наслаждение. Эти люди – эта армия ничего не знающих о себе людей – шли на такие отношения безрадостно, полностью опустошенные. В них что-то застыло, умерла способность любить, оттого и сами они уже не умели отвечать на нее, хотя погибали от ее отсутствия. Покорная пассивность в темноте была только тенью любви – они мечтали, чтобы кто-нибудь полюбил их так сильно, что захотел бы ласкать при солнечном свете, получая от этого радость! Но тогда и они не могли бы оставаться пассивными.
Хаос. Главное, что отличало его от всех этих мужчин, – это открытый взгляд на их связь. Он видел уязвимые места таких людей. За это его не любили, а просто использовали. Он тоже не любил их, хотя мечтал о любви, встреча проходила как бы между двумя спящими, и ни один не мог разбудить другого, разве что на миг – краткий и горький. Затем они вновь оказывались во власти сна, пускались на новые поиски и снова погружались в хаос.
Более того, если случайная связь продолжалась, если ростки робкой привязанности пробивались сквозь слои льда и стыд отступал, воцарялся еще больший хаос. С обретенным партнером стыд не исчезал совеем. Чувство прорывалось сквозь трещину, щель, но в тот же разрыв засасывало разные страхи. Ведь любовный акт – это исповедь. Можно сколько угодно лгать о теле, но само тело не лжет, оно не может солгать о той силе, которая управляет им. И Эрик неизбежно узнавал правду о множестве мужчин, которые хотели бы изгнать ее вместе с Эриком из этого мира.
А как умудриться сберечь честь в этом хаосе? Перед его взглядом мелькали морские огоньки, с кухни доносились голоса Ива и мадам Беле. Честь. В глазах общества он не имел чести и знал это. Его жизнь, увлечения, испытания, сердечные привязанности считались, в худшем случае, крайней степенью разврата, в лучшем – болезнью, а в глазах соотечественников – и преступлением. Для него не существовало общепринятых правил, потому что он не мог согласиться с самими их определениями, с чудовищным механическим жаргоном нашего века. Он не видел вокруг никого, кому мог бы позавидовать, не верил в долгий сумрачный сон, называемый здоровой жизнью, не верил в лекарства, панацеи и лозунги, признанные этим миром, а потому ему оставалось только выработать собственные определения и правила и следовать им в жизни. Надо было самому разобраться в том, кто он есть, избежав рекомендаций тех, кто являлся знахарями нашего времени.
– Mais, bien sûr, – услышал он слова Ива, обращенные к мадам Беле, – je suis tout à fait de votre avis [45]. – Мадам Беле хорошо относилась к Иву и никогда не упускала возможности при случае поделиться с ним семидесятидвухлетним жизненным опытом. Эрик так и видел, как Ив, держа в руках два стаканчика, пятится к двери, вежливо и слабо улыбаясь – он питал безграничное уважение к старым людям, – выжидая, когда в долгом монологе мадам Беле наступит пауза, во время которой можно успеть прошмыгнуть в дверь.
Эрику мадам Беле тоже симпатизировала, но, как ему казалось, только потому, что считала его благодетелем Ива, пусть и не совсем обычным. Будь Эрик французом, она презирала бы его. Но, dieu merci! [46] – во Франции не рождались такие странные субъекты, как Эрик, и потому она не судила его по строгим стандартам своей цивилизованной родины.
– В какое время вы уезжаете? – спросила она.
– Никак не раньше полудня, мадам, вы ведь знаете нас.
Она засмеялась, Ив тоже. В их смехе было нечто непристойно-фривольное. У него возникло чувство, которое он, правда, тут же подавил, что они смеются над ним.
– Надеюсь, вам понравится Америка, – услышал он голос мадам Беле.
– Я там разбогатею, – отозвался Ив, – вернусь, и мы совершим вместе паломничество в Рим.
Мадам Беле была очень набожна, мечтой всей ее жизни было увидеть перед смертью священный город.
– А, пустое. Вы никогда не вернетесь.
– Нет, обязательно вернусь, – возразил Ив, но в его голосе послышалось сомнение. Эрик впервые почувствовал, что Ив боится.
– Те, кто уезжает в Америку, никогда не возвращаются, – резонно заметила мадам Беле.
– Аи contraire [47], – сказал Ив, – они постоянно возвращаются.
Возвращаются – к чему? – мысленно задал себе вопрос Эрик. Мадам Беле снова рассмеялась. Потом голоса умолкли. Ив вошел в комнату, вручил Эрику стакан и снова сел на пуф, положив голову ему на колени.
– Уж и не знал, как от нее отделаться.
– А я как раз собирался прийти тебе на помощь. – Эрик наклонился и поцеловал Ива в шею.
Ив провел рукой по щеке Эрика и закрыл ему глаза. Они сидели неподвижно. Эрик чувствовал, как пульсирует под его пальцами кровь юноши. Ив потянулся к нему, они поцеловались, а потом мягко отстранились друг от друга. В дрожащем полумраке комнаты глаза Ива светились темным пламенем. Они долго молча смотрели друг на друга, затем поцеловались снова. Эрик со вздохом откинулся назад, а Ив вновь прильнул к нему.
Эрику хотелось знать, о чем тот думает. Взгляд Ива увлек его в прошлое, и он вспомнил тот день в Шартре – с тех пор минуло уже почти два года, – когда в затемненной комнате отеля они с Ивом впервые стали любовниками. Еще до их знакомства Ив посетил знаменитый собор и теперь хотел, чтобы Эрик тоже увидел его. Этот поступок, это желание разделить с Эриком радость от новой встречи с тем, что он любил, знаменовали конец испытательного срока, они говорили о том, что Ив перестал смотреть на мир как на грязную забегаловку, чем удерживал Эрика на расстоянии. Они были знакомы более трех месяцев, но ни разу не прикоснулись друг к другу. Эрик ждал, внимательно и целомудренно следя за изменениями в