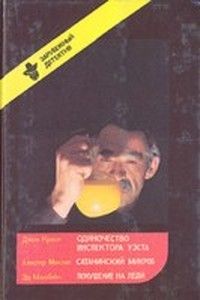Что за хрень! Я сегодня уделал несколько десятков мужиков, вырвав из их рук букет, и сейчас вспоминаю такое! Да весь мой страх и вся моя трусость, весь мой стыд померкли в этот день! И все, Господи, сколько можно! Хватит уже об этом! Я направился в подъезд, где собирались пацаны попить винца и потренькать на гитаре.
Когда я вошел туда, там было темно. Ни одной лампочки. На ощупь я добрался до лифта. Потом нащупал на стене кнопку вызова.
Между седьмым и восьмым этажом у окна топтались две фигуры. Я стал спускаться к ним.
— Ты, что ли? — узнал меня один из присутствующих.
— Ну, — ответил я.
— Курить есть?
— Нет.
Второй была какая-то девчонка. Слабый свет из окна освещал ее лицо.
— Хочешь посмотреть на уши? — спросил мой знакомый.
— Какие уши? — не понял я.
Он сделал шаг к той, что стояла у окна, повозился с ней и отошел. Среди вороха всклокоченных на ней одежд я различил оголенную грудь. Черт, это было не очень приятное зрелище.
— И что? — снова спросил я.
— Сейчас она сосать будет.
— Правда, что ли?
— Не веришь? Она уже сосала, пока ты не пришел.
— Сосала?
— Да. Причмокивала. Хочешь, тебе пососет?
— Правда?
— Эй, ты ему пососешь?
Та, к кому он обратился, молча стояла у стены, не пытаясь заправиться. Словно ей все равно. Что-то было в этом страшное, как будто все мы были обречены.
— Ты пососешь ему? — не отставал от нее парень.
— Не надо, — сказал я.
— Чего ты? — удивился он.
— Пойду.
— Зассал, что ли?
— Не хочу.
— Ну тогда мне еще пососет. Хочешь, посмотри.
Он снова подошел к ней вплотную.
— Нет, мне пора.
Я спустился на этаж и снова вызвал лифт.
Настроение было поганое. Хотя и было ощущение, что я по своей вине пропустил что-то, о чем потом буду жалеть. И буду называть себя последним мудаком. Я вспомнил мамины икры и лицо той, о которой стеснялся даже думать, а потом губы стоящей на лестнице. Все это как-то не становилось в один ряд. Как все было сложно и нелепо, Господи. О чем Ты там только думаешь, когда складываешь такое.
Дома уже веселились вовсю. Я пришел в самый разгар, когда начались пляски. Бедные соседи снизу. Впрочем, они тоже не стеснялись, если что. Сучили ногами все, кто мог и хотел это делать.
Мне было грустно. Бросив взгляд на стол, я увидел свой букет. Казалось, он несколько потускнел среди початых бутылок и грязных тарелок. Теперь он, скорее, походил на взрыв, нежели на салют. Теперь шла война, все было наоборот. Меня обняли и потащили в круг. Все были разгорячены, от них исходили жадные флюиды. Когда я вспомнил подъезд, а потом магазин, мне стало совсем не по себе. Вырвавшись, я пошел в спальню.
Долго лежал, зарывшись в подушки, ждал, когда закончится веселье. Мать с отцом заходили в спальню, вернее, мама затаскивала его туда.
— Не пей. Хватит тебе уже, — говорила она ему.
— Да ладно, я в порядке, — раздраженно отвечал он.
— Повторяю, хватит.
— Отстань.
— Слышишь?
— Отстань, говорю.
Притворяясь, что сплю, я зажимал ладонями уши. Родители говорили негромко, но голоса их звучали довольно внятно. Потом они вышли. Через какое-то время веселье начало затихать.
Наверное, я и правда задремал, потому что очнулся от тишины. Вскочив на ноги, я выглянул из спальни. Квартира была пуста.
Умывшись холодной водой, вышел в зал и сел за стол. Он был наполовину убран, цветы стояли на прежнем месте. Два гладиолуса, три розы.
И тут я столкнулся с неразрешимой задачей. Сначала думал взять три розы, но два оставшихся гладиолуса на столе смотрелись более чем странно. Впрочем, так же, как и в моих руках. Сделав в уме нехитрые подсчеты, я понял, что букет был неделим.
Признаться, такого я не ожидал. Сидел и тупо смотрел на цветы. Время шло, и надо было на что-то решаться.
Наконец я вынул букет из вазы и стал осторожно заворачивать его в газету. Стараясь не думать о матери, о том, с каким лицом она посмотрит на меня, машинально делал свое дело. Газета внизу намокла и немного порвалась. Из свертка торчали зеленые стебли. Не обращая на это внимания, я быстро оделся и вышел из квартиры.
Я крался, как вор, скользя вдоль домов, по теневой стороне. Никогда еще так остро не пах морозный воздух. В его запахе смешалось все, что я знал до сих пор, с тем, что мне еще предстояло узнать. Он кружил голову, и мне приходилось тормозить на поворотах, чтобы не зарыться с головой в снег.
Добежав до нужного мне дома, я нырнул в подъезд. Только бы никого не встретить, поднимаясь на последний пятый этаж. Прислонив сверток к дерматиновой обивке, я глубоко вдохнул и позвонил.
Дверь открылась, когда я был уже на третьем этаже. Зашуршала газета, затем наступила тишина. Она была такой, как в первый день творения. Я был свидетелем, Господи, Твоей тишины. Стоял, замерев, и сердце стучало громче Твоих часов, когда они отсчитывали первые секунды. Затем дверь наверху закрылась, и начался другой отсчет.
Родители уже проводили гостей и вернулись домой. Отец что-то пьяно бормотал на кухне, а мать сидела в зале за столом и тихо плакала. Ее когда-то красивое лицо было красным от слез. Она не заметила меня или сделала вид. Тихо проскочив в спальню, я разделся и лег в свою кровать.
Лежа в постели, я вспомнил, что никогда не видел, чтобы отец дарил цветы моей матери. Вспомнил ее заплаканное лицо. Вспомнил лицо той, о ком стеснялся даже думать. Представил, как она разворачивает газетный сверток и достает из него два гладиолуса и три розы. И испытал такую смесь чувств, которую Ты, Господи, никогда не испытывал.
Мы лежали на балконе у Гаманка.
На высоте девятого этажа небо казалось близким. До остывающей луны можно было дотронуться, вытянув руку. В голове сладко шумела то ли кровь, то ли допитое, оставшееся с вечера вино.
Гаманок рассказывал очередную историю.
— У нас в путяге крендель один — Сидорчук — слепой, как крот. Вчера двор убирали, меня с ним на носилки поставили. Забодал натурально. Каждый раз, когда мимо проходила бикса, приходилось тормозить, потому что он бросал носилки и пытался ее рассмотреть, пальцем натягивая глаз.
Это было смешно, и я улыбался. Небо бледнело. Еле слышно шелестела листва. Веяло летней утренней прохладой, перемешанной с тяжелым вином и легкой виной. Пахло какой-то дикой свободой, и этот воздух переполнял мои легкие.
Вчера я в сотый раз убежал из дома.
Не понял, с чего началось, но вот мы уже стоим друг против друга. Я и мой отец. Мы смотрим друг другу в глаза, пытаясь предугадать момент удара, самое его зарождение. Меня бьет дрожь — я трясусь, как последний шнырь, я боюсь своего отца. Уже потом, хлопая дверью, я сбегал по ступенькам вниз, едва сдерживая слезы и проговаривая про себя одну и ту же фразу: никогда не буду таким, как ты, никогда не буду таким, как ты, никогда…
— …я зажал ее между гаражей, — продолжает Гаманок, отыскивая где-то бычок и пытаясь подкурить. Обжигается: — Черт, сука!
— Кого? — мне становится любопытно.
— Ленку с седьмого этажа.
— Ого, да она же мокрощелка еще! — я опираюсь на локоть и подбиваю поудобнее подушку. — Ну и?..
Гаманок, наконец, щурясь от дыма, затягивается.
— Ей уже тринадцать, — говорит он и гадко ухмыляется.
— Ну, ты зверь, — восхищенно качаю я головой. — Зверюга гаманокская! Оставь дернуть.
Он передает мне хабарик, и я подношу его к губам. Затяжка горяча и так же коротка, как моя обида. Обиды нет, но есть нечто большее и глубокое, что с каждым разом ширится и что скоро будет не перешагнуть.
— Да, — говорит Гаманок, как бы между прочим. — Тебе придется давать показания.
— Не понял, — я выщелкиваю пальцем окурок за борт. — Какие показания?
— Пока ты спал, я порубился с отчимом.
Он смотрит на меня.
— С каким отчимом? — не понимаю я.
— Со своим, ептить! Опять приставал к мамаше. Хай подняли такой, что пиздец! Короче, он взял топор, а я саблю.
— Хуясе! — я представил приятеля с саблей. — И что?
— Мамаша мусоров вызвала, они его и забрали, вот и все…
— А я тут при чем?
— Ну, она хочет его закрыть. Нужен свидетель, понимаешь? На суде скажешь пару слов: хуе-мое, бухой мужик, топор, кровища… Они твой адрес записали.
Мой адрес. Ни хрена себе. Я никак не мог переварить его слова.
— Погоди-погоди. Какая еще кровища?
Он снова ухмыляется.
— Я ему палец отрубил.
— Что?!
Охренеть! Отрубил отчиму палец! Саблей! Не может быть!
На перила садится воробей и, едва взглянув на нас, срывается в бездну.
— Покажи, — говорю я.
— Палец? — улыбается приятель.
Он с готовностью встает и уходит в комнату. Затем появляется снова с какой-то тряпочкой в руке. Садится, разворачивает передо мной окровавленный платок. Да, черт, это палец.