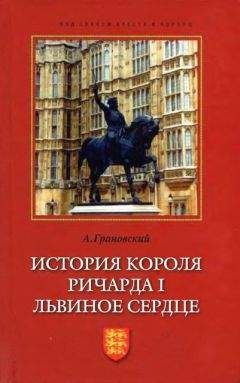Протектор страстно желал довершить то, что начал, и каждый день казался ему годом, пока это не было достигнуто; но он не отваживался на дальнейшие попытки, так как в руках у него была только половина добычи: он хорошо понимал, что если он низложит одного брата, то все королевство поддержит другого, останется ли он заточен в убежище или его сумеют благополучно вывести на вольную волю {В 1565 пространнее: "или скорее, чего он весьма опасался, его увезут куда-нибудь за пределы Британии".}. Поэтому вскоре же он заявил в ближайшем собрании совета лордов {41}, что королева поступает гнусно и оскорбительно для королевских советников, стараясь удержать королевского брата в своем убежище, хотя король более всего был бы рад и счастлив видеть брата рядом с собой; а сделала это она только затем, чтобы вызвать недовольство и ропот народа против всех лордов, - разве нельзя доверить королевского брата тем, кто по решению всего дворянства страны назначен охранять самого короля как ближайшие его друзья? {В 1565 пространнее: "Она как будто завидует радостям их взаимной любви; а всего преступнее то, что выставляет она - как главную свою заботу - то, что сына своего она лишила свободы, лишила света и блеска славной его доли и, увлекши его в убежище, словно столкнула его в убожество, мрак и грязь. А единственная всему этому причина - желание возбудить лютую народную ненависть против вельмож королевского совета: сама же она ненавидит их с таким пылом, что готова им отомстить даже ценою родных детей, как Медея в сказании. Ибо зачем держать дитя в убежище, как не затем, чтобы показать народу, будто попечение ваше о государе то ли ненадежно, то ли неразумно, будто опасно доверить мне даже королевского брата, тогда как вы доверили моему воспитанию и призрению самого короля?"} "Благополучие же короля, говорил он, - это не только охрана от врагов или от вредной пищи, это также и отдых, и скромные развлечения {В 1565 добавлено: "которые удивительным образом освежают и укрепляют детскую душу"}, которых ему в его нежном возрасте не может доставить общество пожилых людей, а может доставить лишь дружеское общение с теми, кто не слишком моложе его и не слишком старше, а по знатности достойны быть рядом с его величеством, - с кем же, короче говоря, как не с собственным своим братом? {В 1565 добавлено: "которого теперь родная мать, хуже чем мачеха, не пускает к нему".} А если кто подумает, что все это мелочи (впрочем, я надеюсь, ни один человек, любящий короля, этого не подумает), то пусть он вспомнит, что порой без малых дел не вершатся и великие. Поистине великий позор и для его королевского величества, и для всех нас, близких к его милости, слышать, как и в нашей земле, и в других краях (дурная весть далеко бежит!) из уст в уста разносится молва, что королевский брат должен изнывать в убежище! Слыша это, всякий подумает, что без причины такое не делается; и дурная мысль, поселясь в сердцах людских, уж не скоро их покинет, а какая из этого может вырасти беда - и предугадать трудно. Поэтому, мне думается, для поправления дела неплохо бы послать к королеве человека почтенного и верного, который пользуется ее любовью и доверием, но печется и о благе короля, и о чести его совета.
По всем этим соображениям представляется мне, что нет для этого дела более подходящего человека, чем присутствующий здесь досточтимый наш отец кардинал, лорд-канцлер {42}, который тут может больше всех принести добра, если только будет ему угодно принять на себя эту заботу. Я не сомневаюсь, что он не откажется как по доброте своей, так и ради короля, ради нас и ради блага юного герцога, высокочтимого королевского брата и моего племянника, который мне дороже всех после государя. Этим тотчас укротятся рассеваемые ныне клевета и злословие и устранятся все грозящие от них бедствия, - мир и тишина воцарятся в королевстве. Если же, паче чаяния, королева будет упорствовать и непреклонно стоять на своем, так что ни его преданный и мудрый совет ее не поколеблет, ни чьи-либо иные человеческие доводы не убедят, тогда, по моему мнению, мы именем короля выведем герцога из заточения и доставим к государю, находясь при котором неотлучно будет он окружен такой заботой и таким почетом, что к нашей чести и ее позору весь мир поймет, что только злоба, упрямство или глупость вынуждали ее держать его в убежище. Таково мое нынешнее мнение, если только кто-нибудь из ваших светлостей не полагает иначе; благодарение богу, я не настолько привержен к собственному суждению, чтобы не изменить его по вашим разумнейшим советам".
На такие слова протектора весь совет подтвердил, что его предложение было и добрым, и разумным, и почтительным перед королем и герцогом, королевским братом, и что если королева подобру на это склонится, то великому ропоту в королевстве наступит конец. И архиепископ Йоркский {43}, которого все сочли удобным туда послать, взялся убедить ее и этим выполнить первейший свой долг.
Тем не менее и он, и другие присутствовавшие там священнослужители полагали, что если ничем не удастся убедить королеву освободить герцога по доброй воле, то никоим образом не следует пытаться захватить его ей наперекор, - ибо если будут попраны права святого места, то все люди на это возропщут, а всевышний господь прогневается. Права эти блюлись много лет. Пожалованы они были по милости королей и пап, подтверждены были многократно, а священным основанием их было то, что более чем за пятьсот лет до того сам святой апостол Петр, явившись ночью в образе духовном и сопутствуемый несметными ангельскими силами, освятил это место {44}, предназначив его всевышнему (в доказательство чего и доселе в обители св. Петра сохраняют и показывают плащ сего апостола). С тех самых пор и доныне не было еще ни одного столь безбожного короля, чтобы посмел осквернить божие место, и не было столь святого епископа, чтобы осмелился его освятить. "И потому (сказал архиепископ Йоркский) никакому человеку ни для каких земных причин не дозволяет господь посягать на неприкосновенность и свободу святого убежища, которое сохранило жизнь столь многим добрым людям. Я надеюсь (продолжал он), что по милости божией нам это и не понадобится; но даже если понадобится, мы отнюдь не должны этого делать. Таково мое мнение; я уверен, что королева склонится к доводам разума, и все уладится по-доброму. Если же не случится мне достигнуть цели, то и тогда я сделаю все, что могу, чтобы всем было понятно: не моя нерадивость, но лишь женский страх и материнская тревога были тому причиной". - "Женский страх? Нет, женское упрямство! - возразил герцог Бэкингем. - Я смело и по совести говорю: она отлично знает, что ей нечего бояться ни за сына, ни за себя. Право же, здесь нет ни одного мужчины, который стал бы воевать с женщиной! И если бы господу угодно было иных мужчин из ее рода сделать женщинами, тогда бы все успокоилось очень скоро. Да и то ведь ее родственников ненавидят не за то, что они ее родственники, а за то, что у них дурные умыслы. Но если мы и не любим ни ее, ни ее родню, то из этого совсем не следует, что мы должны ненавидеть благородного брата короля, которому мы и сами все приходимся родственниками. Если она ищет ему чести так же сильно, как нашего бесчестия, если заботится о его благе не меньше, чем о собственной воле, то она так же не захочет отрывать его от короля, как не хочет этого каждый из нас {MS Arundel иначе: "Если бы действительно забота о его здоровье руководила ею не меньше, чем ее своеволие или ее ненависть к нам, она сама бы поспешила вызволить его из этого заточения, она бы так же горевала, видя сына взаперти, как сейчас стремится заточить его и сковать".}. Если же есть в ней хоть немного рассудительности (а ведь дай ей бог столько доброй воли, сколько у нее тонкого ума!), то она бы не считала себя умнее некоторых, здесь присутствующих. В верности нашей она не сомневается, зная и вполне понимая, что мы о его беде тревожимся не менее, чем она, но тем не менее отнимем его у нее, если она останется в убежище. Право же, все мы были бы рады оставить обоих при ней, если бы она вышла оттуда и поселилась в таком месте, где не позорно им жить. Если же она откажется освободить герцога и последовать совету тех, чья мудрость ей известна и верность испытана, то легко будет понять, что владеет ею упрямство, а не страх. Но пусть это будет даже страх (можно ли помешать ей бояться собственной тени?), - тогда чем больше она боится выпустить герцога, тем больше мы должны бояться оставить его при ней. Если сейчас она в праздных своих сомнениях боится, как бы его не обидели, то потом она будет бояться, как бы его и оттуда не похитили: ведь она подумает, что если люди решились на такое великое злодеяние (от какого избави нас бог), то и священное убежище им не помеха. Думается мне, что добрые люди без греха на душе могут с таким страхом считаться меньше, чем они считаются. Ведь если она будет опасаться, что сына у нее отнимут, то разве с нее не станется отправить его куда-нибудь прочь из королевства. Воистину я не вижу ничего другого; и я не сомневаюсь, что она сейчас так же упорно над этим думает, как мы думаем над тем, чтобы этому помешать. И если ей удастся достигнуть своего (а это ей не трудно, если мы оставим ее одну), то весь мир о нас скажет: хороши, мол, мудрые королевские советники, что позволили из-под носа у себя увезти королевского брата!