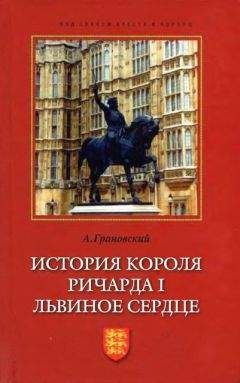Не прошло и суток, как вести о случившемся дошли до королевы {34}, и вести эти были самые скорбные: король, ее сын, схвачен; брат ее, сын ее и другие друзья арестованы и отправлены неизвестно куда, а что с ними будет, знает только бог {В 1565 добавлено: "все переменилось, все смешалось и рухнуло; нельзя было терять времени, следовало, пока не поздно, позаботиться о себе и о своем добре, чтобы стремительно надвигавшиеся враги не захватили и всего остального".}. Услыхав такую весть, королева в великом страхе и горести стала оплакивать гибель сына, несчастье друзей и собственное свое злополучие, проклиная тот день, когда она согласилась распустить королевскую охрану. Как можно быстрее она перешла с младшим сыном и дочерьми из Вестминстерского дворца, где они жили, в святое убежище, расположившись со своею свитою в покоях аббата.
В ту же ночь, вскоре после полуночи, к канцлеру Англии архиепископу Йоркскому {35} в его резиденцию близ Вестминстера пришел от лорда-чемберлена гонец. Он объявил слугам, что принес такое важное известие, что господин его велел не пожалеть даже архиепископского сна. Слуги, не колеблясь, разбудили архиепископа, а тот допустил гонца к своей постели. От него он услышал, что герцоги с его королевской милостью вернулись из Стони Стаффорд в Нортгемптон. "Тем не менее, сэр, - сказал гонец, - мой господин дает слово вашей светлости, что бояться нечего: он заверяет вас, что все будет хорошо". - "Я же заверяю его, - ответил архиепископ, - что как бы все хорошо ни стало, никогда оно не будет так хорошо, как было". И поэтому тотчас, как гонец ушел, архиепископ спешно поднял всех своих слуг и так, окруженный свитою, в полном вооружении, взяв с собой большую государственную печать, еще до рассвета явился к королеве.
Там все было полно страхом, шумом, беготней и суетней: королевское добро доставляли и перетаскивали в убежище. Сундуки, ящики, короба, узлы, тюки - все на спинах людей, ни одного человека без дела: кто грузит, кто носит, кто разгружает, кто возвращается за новой ношей, кто ломает стену, чтобы расчистить прямой путь, кто хлопочет, чтобы помочь на окольном пути; а сама королева одиноко сидит на соломе, покинутая и растерянная {В 1565 добавлено: "стиснув пальцы и оплакивая участь свою и своих близких".}. Архиепископ ободрил ее как мог, сделав вид, что все не так уж плохо, как ей кажется {В 1565 пространнее: "убеждая ее не отчаиваться в происходящем и не оставлять надежду на лучшее: у него еще есть надежда, что дело обернется не так ужасно, а ей от страха все представляется в ложном свете".}, и что послание лорда-чемберлена обнадежило его и избавило от страха. "О будь он проклят! - воскликнула на это королева, - он и сам из тех, кто стремится погубить меня и мой род!" - "Государыня, - ответил ее собеседник, - не падайте духом: клянусь вам, если они коронуют кого-то другого вместо вашего сына, который сейчас у них в руках, то мы завтра же коронуем его брата, который при вас. А вот и большая государственная печать: как мне ее вверил благородный государь, ваш супруг, так я теперь вручаю ее вам для блага и пользы вашего сына". С этими словами он отдал ей большую печать и отправился обратно домой.
Уже занимался день, и из окна архиепископской палаты видна была Темза, полная лодок со слугами герцога Глостера, сторожившими, чтобы ни одна душа не проникла в королевское убежище и чтобы даже мимо никто не смог проплыть бы незамеченным. Великое волнение и ропот были и здесь, и всюду, и особенно в городе: всякий по-своему гадал о событиях; иные лорды, дворяне и джентльмены из преданности королеве или из страха за себя собирались группами там и сям и ходили, сгрудившись, с оружием в руках; а многие поступали так потому, что думали, будто такие действия герцогов направлены не столько против других лордов, сколько против самого короля, чтобы помешать его коронации {1565 излагает эти события иначе: "Тотчас пошли слухи, новость была у всякого на устах, все недоумевали, все волновались гневом, страхом и скорбью; одни собирались тут и там вооруженные, ходили отрядами, угрожали друг другу, объединяемые общими заботами или страхом опасности. Движимые враждою или верностью, одни старались скрасить словами ненавистные дела, другие обличить их красноречием. Чтобы Лондону не было причинено какого-либо вреда, горожане расставили караулы. А так как лорды по большей части находились или в столице, или поблизости, то все это смятение и слухи побуждали их к самым различным догадкам".}.
Между тем лорды съехались в Лондон. Накануне их собрания архиепископ Йоркский, страшась, что его обвинят в чрезмерном легкомыслии (как оно и случилось на самом деле) за то, что он без особого на то приказа короля вдруг отдал большую печать королеве, которой она никогда не доверялась, послал к королеве за печатью и стал опять держать ее, как обычно. А в собрании лордов лорд Гастингс, в чьей верности королю никто не сомневался и не мог сомневаться, сумел всех убедить, что герцог Глостер предан государю верно и твердо и что лорд Риверс и лорд Ричард с остальными рыцарями, выступившие против герцогов Глостера и Бэкингема, взяты под стражу только ради безопасности последних {1565 излагает иначе: "потому что существовала уверенность, что они угрожали безопасности герцогов, - так это или нет, предстоит решить вам: для вашего разбирательства их и задержали герцоги, жалуясь на такую нимало не заслуженную обиду с их стороны".} и без всякой угрозы королю; а под стражей они будут не долее, чем пока дело их не будет беспристрастно рассмотрено всеми лордами королевского совета (а не одними только герцогами), по усмотрению которых они и будут либо осуждены, либо оправданы. Однако же, предостерегал он, б таком деле не следует судить опрометчиво, не выяснив всю истину, не следует обращать личные обиды на общую беду, не следует смущать умы и разжигать злобу и тем самым препятствовать коронации, ради которой направляются сюда герцоги, так как иначе они сумеют, вероятно, довести раздоры до такой степени, что уже ничего нельзя будет уладить. А если, как можно предвидеть, в такой борьбе дело дойдет и до оружия, то хоть силы сторон и равны, но перевес будет за теми, с кем король.
Подобные доводы лорда Гастингса (отчасти он в них сам верил, отчасти же думал совсем иначе) до некоторой степени успокоили брожение умов, тем более что герцоги Глостер и Бэкингем были уже близко, спеша доставить в Лондон короля не иначе, как с целью его коронования, - ни на что другое они не указывали ни словом, ни видом. Зато они старательно раздували молву, что те лорды и рыцари, которые были схвачены, действительно замышляли погубить герцогов Глостера и Бакингема и других знатнейших особ королевства с той целью, чтобы самим держать в руках короля и распоряжаться им по своему усмотрению. А чтобы это казалось правдоподобнее, слуги герцога, сопровождавшие телеги с добром арестованных, по всем дорогам показывали его народу с такими словами; "Вот полные бочки оружия, которое эти изменники тайно везли в обозе, чтобы погубить благороднейших лордов!" (Между тем решительно ничего не было удивительного, что средь этого их добра имелось и оружие, вынесенное или выброшенное, когда громили их дворы). Умных людей такая выдумка только укрепляла в их сомнениях, так как они хорошо понимали, что для такой цели заговорщики скорее будут носить оружие при себе, чем прятать в бочки; однако большей части простого люда этого было вполне достаточно {В 1565 добавлено: "чтобы поверить, что явная в несомненная измена угрожала безопасности герцогов со всех сторон".}, и даже слышались крики, чтоб их повесить.
Когда король приблизился к городу, мэр Эдмунд Шей, ювелир, вместе с Уильямом Уайтом и Джоном Мэтью, шерифами, со всеми остальными олдерменами, одетыми в алое, и в сопровождении 500 горожан, одетых в фиолетовое и верхом на конях, встретили его почтительно близ Горнси {36} и оттуда сопровождали его в город, куда они и прибыли 4 мая {37} в первый и последний год его правления {38}. Герцог Глостер у всех на глазах держался по отношению к государю очень почтительно и с видом крайней скромности, так что тяжкое подозрение, лежавшее на нем совсем недавно, вдруг сменилось таким великим доверием, что на совете, вскоре собравшемся, именно он был признан и избран, как наиболее пригодный человек быть протектором короля и королевства {39}. Вот как случилось, что по неразумию или по воле судьбы ягненок был отдан под охрану волка. На этом же совете великим упрекам подвергся архиепископ Йоркский, канцлер Англии, за то, что он выдал королеве большую печать; печать у него была отобрана и вручена доктору Расселу, епископу Линкольна, человеку мудрому, доброму, многоопытному и, несомненно, одному из самых ученых людей, которых имела тогда Англия {40}. Различным лордам и рыцарям были назначены различные должности; лорд-чемберлен и некоторые другие сохранили за собой прежние свои посты.
Протектор страстно желал довершить то, что начал, и каждый день казался ему годом, пока это не было достигнуто; но он не отваживался на дальнейшие попытки, так как в руках у него была только половина добычи: он хорошо понимал, что если он низложит одного брата, то все королевство поддержит другого, останется ли он заточен в убежище или его сумеют благополучно вывести на вольную волю {В 1565 пространнее: "или скорее, чего он весьма опасался, его увезут куда-нибудь за пределы Британии".}. Поэтому вскоре же он заявил в ближайшем собрании совета лордов {41}, что королева поступает гнусно и оскорбительно для королевских советников, стараясь удержать королевского брата в своем убежище, хотя король более всего был бы рад и счастлив видеть брата рядом с собой; а сделала это она только затем, чтобы вызвать недовольство и ропот народа против всех лордов, - разве нельзя доверить королевского брата тем, кто по решению всего дворянства страны назначен охранять самого короля как ближайшие его друзья? {В 1565 пространнее: "Она как будто завидует радостям их взаимной любви; а всего преступнее то, что выставляет она - как главную свою заботу - то, что сына своего она лишила свободы, лишила света и блеска славной его доли и, увлекши его в убежище, словно столкнула его в убожество, мрак и грязь. А единственная всему этому причина - желание возбудить лютую народную ненависть против вельмож королевского совета: сама же она ненавидит их с таким пылом, что готова им отомстить даже ценою родных детей, как Медея в сказании. Ибо зачем держать дитя в убежище, как не затем, чтобы показать народу, будто попечение ваше о государе то ли ненадежно, то ли неразумно, будто опасно доверить мне даже королевского брата, тогда как вы доверили моему воспитанию и призрению самого короля?"} "Благополучие же короля, говорил он, - это не только охрана от врагов или от вредной пищи, это также и отдых, и скромные развлечения {В 1565 добавлено: "которые удивительным образом освежают и укрепляют детскую душу"}, которых ему в его нежном возрасте не может доставить общество пожилых людей, а может доставить лишь дружеское общение с теми, кто не слишком моложе его и не слишком старше, а по знатности достойны быть рядом с его величеством, - с кем же, короче говоря, как не с собственным своим братом? {В 1565 добавлено: "которого теперь родная мать, хуже чем мачеха, не пускает к нему".} А если кто подумает, что все это мелочи (впрочем, я надеюсь, ни один человек, любящий короля, этого не подумает), то пусть он вспомнит, что порой без малых дел не вершатся и великие. Поистине великий позор и для его королевского величества, и для всех нас, близких к его милости, слышать, как и в нашей земле, и в других краях (дурная весть далеко бежит!) из уст в уста разносится молва, что королевский брат должен изнывать в убежище! Слыша это, всякий подумает, что без причины такое не делается; и дурная мысль, поселясь в сердцах людских, уж не скоро их покинет, а какая из этого может вырасти беда - и предугадать трудно. Поэтому, мне думается, для поправления дела неплохо бы послать к королеве человека почтенного и верного, который пользуется ее любовью и доверием, но печется и о благе короля, и о чести его совета.