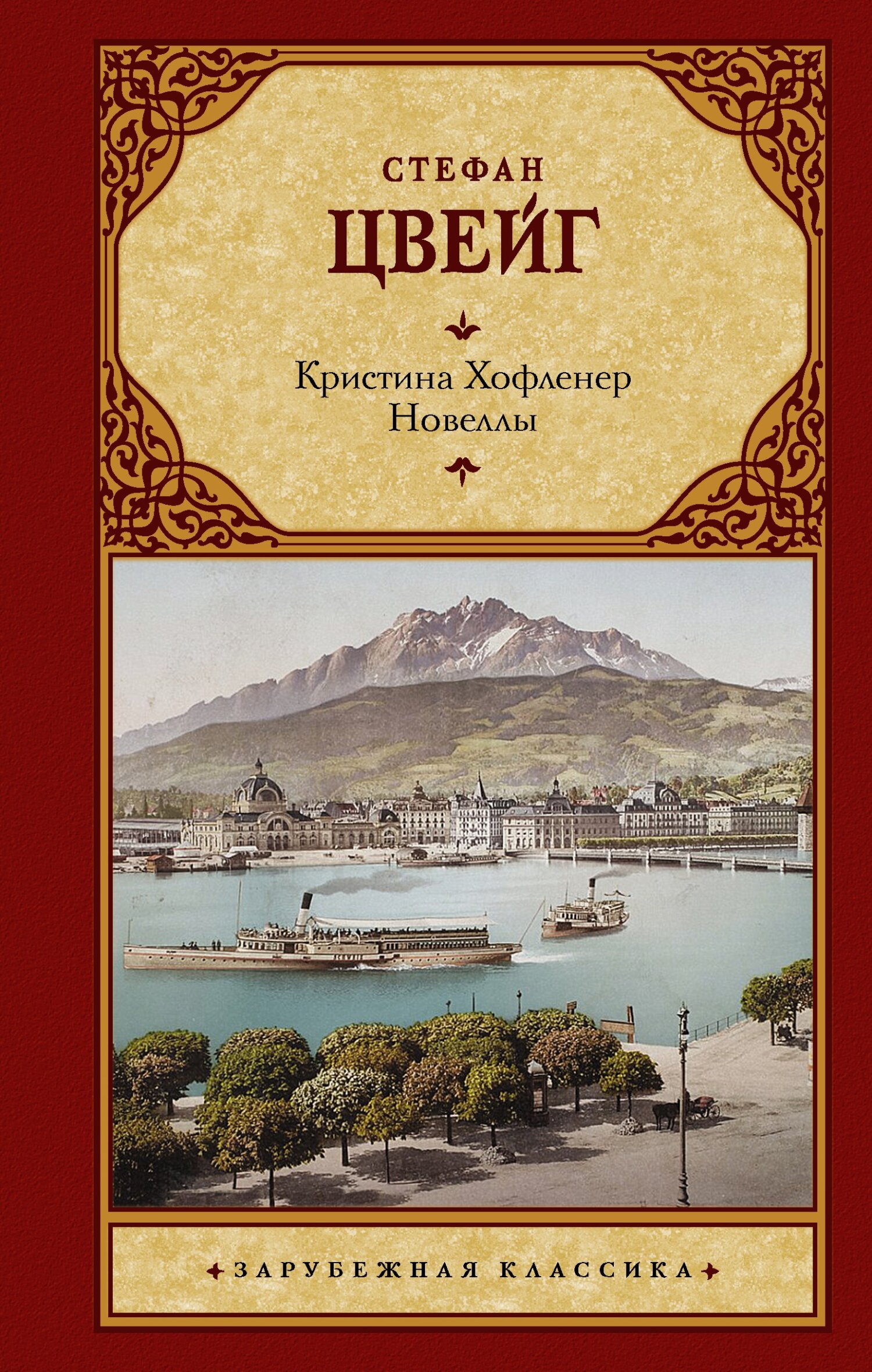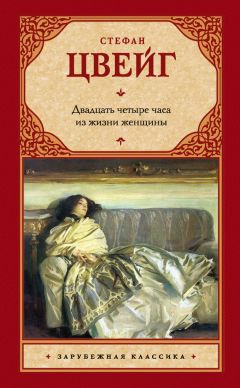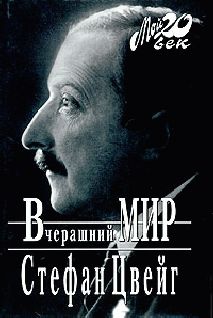словно в панике, забились в норы спекулянтов и вымогателей, и приходится их искать – клянчить хлеб, торговаться с зеленщицей из-за горстки овощей, ездить в деревню за яйцами, везти на ручной тележке уголь с вокзала; изо дня в день в этой охоте состязаются тысячи мерзнущих и голодающих женщин, и с каждым днем добыча все скуднее. А у отца больной желудок, ему нужна особая, легкая пища. С тех пор как отец снял вывеску «Бонифаций Хофленер» и продал лавку, он ни с кем не говорит; прижмет только иногда руки к животу и постанывает, если уверен, что никто его не слышит. Вообще-то следовало бы позвать врача. Но «слишком дорого», говорит отец, продолжая тайком корчиться от боли.
1917 год, ей девятнадцать. На второй день нового года похоронили отца; денег на сберегательной книжке как раз хватило на то, чтобы перекрасить в черное одежду. Жизнь дорожает с каждым днем, две комнаты они уже сдали беженцам из Бродов, но денег все равно не хватает, все равно, хоть надрывайся не покладая рук от зари до зари. Наконец деверю удалось выхлопотать для матери место кастелянши в Корнойбургском лазарете, а ее, Кристину, устроить пишбарышней в канцелярию. Если бы только не вставать на рассвете, не тащиться в такую даль, не мерзнуть утром и вечером в нетопленом вагоне. Потом делать уборку, штопать, чинить, шить, стирать, пока не отупеешь, и без единой мысли, без единого желания проваливаешься в тяжелый сон, от которого лучше не пробуждаться.
1918 год, ей двадцать. Все еще война, все еще ни одного свободного, беспечного дня, все еще нет времени поглядеться в зеркало, выйти на минутку в переулок. Мать жалуется, что у нее начали отекать ноги из-за работы в сыром помещении, но у Кристины почти не остается сил на сочувствие. Она уже слишком давно живет бок о бок с недугами; что-то в ней притупилось с тех пор, как она ежедневно печатает на машинке от семидесяти до восьмидесяти справок о страшных увечьях. Тяжело ковыляя на костылях – левая нога размозжена, – к ней в канцелярию иногда заходит маленький лейтенант из Баната, с золотистыми, как пшеница на его родине, волосами, с нерешительным, еще детским лицом, на котором, однако, запечатлелись следы перенесенного ужаса. Тоскуя по дому, он рассказывает на старошвабском диалекте о своем селе, о собаке, о лошадях, бедный, потерянный белокурый ребенок. Однажды вечером они целовались на парковой скамейке, два-три вялых поцелуя, скорее сострадание, чем любовь; потом он сказал, что хочет жениться на ней, как только кончится война. С усталой улыбкой Кристина пропустила его слова мимо ушей; о том, что война когда-нибудь кончится, она и думать не осмеливается.
1919 год, ей двадцать один. Действительно, война окончилась, но не нужда. Раньше она прикрывалась лавинами распоряжений, коварно таилась под бумажными пирамидами свежеотпечатанных банкнотов и облигаций военных займов. Теперь она выползла, со впалыми глазами, ощерив рот, голодная, нахальная, и пожирает последние отбросы военных клоак. Как из снеговой тучи сыплются единицы с нулями: сотни тысяч, миллионы, но каждая снежинка, каждая тысяча тает на горячей ладони. Пока ты спишь, деньги тают; пока переобуваешь порванные туфли на деревянных каблуках, чтобы сбегать в магазин, деньги уже обесценились; все время куда-нибудь бежишь, и всегда оказывается, что уже поздно. Жизнь превратилась в математику, сложение, умножение, какой-то бешеный круговорот цифр и чисел, и этот смерч засасывает последние вещицы в свою ненасытную пасть: золотую брошь с груди матери, обручальное кольцо с пальца, камчатную скатерть. Но, сколько ни кидай, все напрасно, не спасает и то, что до глубокой ночи вяжешь шерстяные свитера и что все комнаты сдаешь жильцам, а самим приходится спать в кухне вдвоем. Только сон – вот единственное, что еще можно себе позволить, единственное, что не стоит ни гроша; в поздний час вытянуть на матраце свое загнанное, похудевшее, все еще девственное тело и на шесть-семь часов забыть об этом апокалипсическом времени.
Потом 1920–1921 годы. Ей двадцать два, двадцать три. Расцвет молодости, так ведь это называется. Но ей никто об этом не говорит, а сама она не знает. С утра до вечера лишь одна мысль – как свести концы с концами, когда денег все меньше и меньше? Чуточку, правда, полегчало: дядя еще раз помог, самолично навестил своего приятеля (компаньона по карточной игре), служившего в почт-дирекции, и выклянчил у него для Кристины вакансию в почтовой конторе Кляйн-Райфлинга, захолустного виноградарского села; вакансия не ахти какая, но все же с правом на постоянную должность после кандидатского срока, хоть что-то надежное. На одного человека скудного жалованья хватило бы, но, поскольку в доме у зятя для матери места нет, Кристина вынуждена взять ее к себе и все делить на двоих. По-прежнему каждый день начинается с экономии и кончается подсчетами. На счету каждая спичка, каждое кофейное зернышко, каждая щепотка муки. Но все-таки дышать можно и можно существовать.
Затем 1922, 1923, 1924 годы – ей двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Все еще молодая? Или уже стареющая? У глаз постепенно наметились морщинки, иной раз устают ноги, весной почему-то болит голова. Но жизнь все-таки идет вперед, и живется получше. Держишь деньги в руках и чувствуешь, какие они опять твердые и круглые, у нее постоянная работа «почтовой ассистентки», да и зять каждый месяц присылает матери два-три банкнота. Теперь самое время попытаться снова быть молодой, не сразу, потихоньку; мать даже требует, чтобы она выходила, развлекалась. И в конце концов заставляет ее записаться на уроки танцев в соседнем селе. Ритмические движения эти даются ей нелегко, слишком уж глубоко вошла в ее плоть и кровь усталость, суставы ее будто закоченели, и музыке не удается их отогреть. Она тщательно разучивает танцевальные па, но это не увлекает ее, не захватывает по-настоящему, и впервые она смутно догадывается: слишком поздно, война растоптала, оборвала ее молодость. Сломалась какая-то пружинка внутри, и мужчины, вероятно, тоже это чувствуют: ни один всерьез за ней не ухаживает, хотя ее нежный белокурый профиль кажется чуть ли не аристократическим на фоне краснощеких, круглолицых деревенских девиц. Зато послевоенная поросль ведет себя иначе, эти семнадцати-восемнадцатилетние не ждут смиренно и терпеливо, пока кто-нибудь соизволит их выбрать. Они считают, что имеют право на удовольствие, и требуют его с таким пылом, словно хотят не только насладиться своей молодостью, но и погулять еще за тех молодых, сотни тысяч которых убиты и погребены. С неким испугом подмечает двадцатишестилетняя девушка, как самоуверенно и требовательно держатся эти юные представительницы