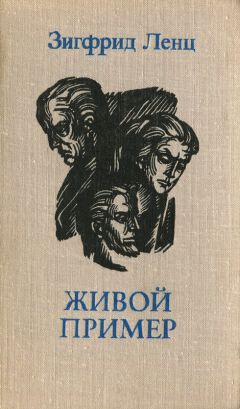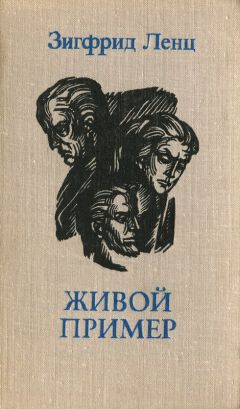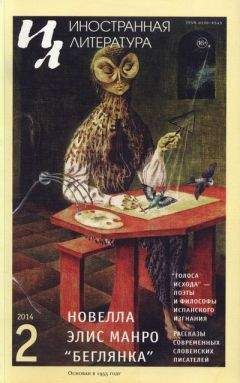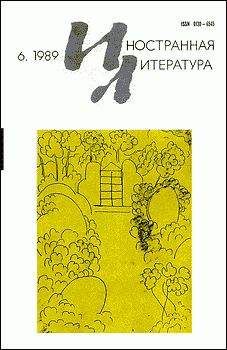— Что, еще?
Звучат отдельные слова, без смысла, без интонации, словно их ничто не связывает.
— Ода и гимн сбросили отныне балласт мысли и вырвались благодаря Гёте и Шиллеру из сферы логики.
В политических одах Шубарта[15] вместо теоретических рассуждений и умозрительного тираноненавистничества выступает подлинный гнев и выстраданное чувство мести.
Лисья мордочка приподнимается и устремляет на Хуберта умоляющий взгляд.
— Что все это значит, черт побери, я ни фига не секу. Давай что-нибудь другое, только не эту муть.
Хуберт делает вид, что спускается на землю, читает заголовок и подзаголовок рукописи и решает:
— Попробуем-ка вот это, может, поинтересней.
— Почему я, почему именно я? — спрашивает лисья мордочка в отчаянии.
На что парень, сидящий на бочонке, кричит:
— Профессор! С этого дня ты будешь нашим профессором! Мы хотим слушать!
— Тут написано: «Создание алфавита».
— Пусть! Валяй дальше!
— Ладно. Из истории буквы мы знаем, что она есть нечто большее, нежели графический знак, большее, чем носитель определенной информации. Буквы, выстроенные в некий образный ряд, создают смысловой образ…
Он снова прерывает чтение, беспомощно глядит на Хуберта, а тот, приняв многозначительную позу человека, осмысляющего сложный текст, с досадой поворачивает к нему голову и спрашивает:
— Ну, что там еще? Почему заело?
— Такие слова, — объясняет парень с лисьей мордочкой, — я просто не могу их выговорить.
— Они все еще употребляются, — говорит Хуберт. — А теперь давай читай!
Только чаю; Рита Зюссфельд просит нынче вечером только вот о чем: чтобы ей дали чаю и чтобы не мешали.
Чашку можно поставить прямо на пол, возле стула, потому что все свободное место на письменном столе заставлено керамическими пепельницами. Поскольку завтра должно быть принято окончательное решение, она надеется, что они уважат ее просьбу и притворят за собою дверь.
— Спасибо, Марет, и извини меня.
Она кладет ноги на стол и натягивает юбку на узловатые колени, словно ей неприятен их вид. Она раскрывает нашпигованную закладками книгу. Она читает:
Четыре часа спустя после того, как Иоганна во второй раз покинула дом Люси Беербаум, снова заявив, что отказывается от места, она поднялась с садовой скамейки, взяла в руки чемодан и сумку и зашагала по тенистой кольцевой дорожке Инноцентиа-парка, постояла у выхода — однако не в приступе нерешительности, а, скорее, чтобы перевести дух, — и тут обнаружила, что, уходя, за была отдать ключ от входной двери. Тогда она ускорила шаг и остаток пути прошла уже без остановок, ни разу даже не поставив свой тяжелый чемодан на тротуар.
Она отперла дверь, придержала ее спиной, чтобы не захлопнулась, волоком втащила чемодан и сумку в холл и прислушалась, прежде чем снять пальто и шляпу. Вещи свои она потом снесет наверх, к себе в комнату; сначала ей надо пойти на кухню и приготовить чай, она и так уже запоздала, и эту чашку несладкого чаю она отнесет ей и тем самым сделает свое, возвращение чем-то само собой разумеющимся. В своем лучшем платье хозяйничала она на кухне, поставила на конфорку кастрюльку с водой, погрела заварочный чайник — все это с большими предосторожностями, чтобы не шуметь, и, ожидая, пока вода закипит, она глядела в окно на маленький, расположенный ступенями садик позади дома, уже расцвеченный первыми красками весны. Белый день под расплывчато голубым небом.
Она налила чай и постучала, по своему обыкновению, уже после того, как приоткрыла дверь, в полутьме, в искусственно созданных сумерках прошла с подносом в руках к тахте, на которой лежала Люси Беербаум — плоская хрупкая фигурка. Раздвижная дверь, отделяющая этот закуток от основной части комнаты, была закрыта, окно завешено так, чтобы свет проникал только через фрамугу, и потому сразу же возникало ощущение тесноты, нарочито заставленного помещения, тем более что спальное место было как бы выгорожено стульями и табуретками.
— Вот чай, он без сахара, тайно я не подсыпала, — сказала Иоганна и поставила поднос на табуретку тем же исполненным укора и участия жестом, как делала все прошедшие дни.
Казалось, для Люси ее появление не было неожиданностью, она не выразила ни удивления, ни радости по поводу того, что чай ей принесла Иоганна, Иоганна, которая всего четыре часа тому назад попросила расчет, потому что, как она сказала, все предостережения и просьбы оказались тщетными. Однако Люси, видимо, ждала ее — она тут же приподнялась на тахте, улыбнулась и, прежде чем взять чашку, подала ей руку, своим молчанием как бы подтверждая, что Иоганна не принимала решения об уходе. Иоганна с недоверием, пристально оглядела комнату — не произошли ли здесь какие-либо изменения за ее отсутствие. Итак, две жесткие, приземистые табуретки, ящик для хлеба, куда ей надо было каждое утро класть пайку на день; эмалированная миска, которую госпожа профессор Беербаум теперь сама мыла; под тахтой по-прежнему валялась кипа нераспечатанных конвертов, телеграмм и непрочитанных журналов, а на полке, словно она недостижима, — нетронутая пачка писчей бумаги; в овальной раме все на том же месте на стене висела фотография, фотография весьма тщательно одетого мужчины, но, хоть солнце и стояло в зените, лицо его было едва видно, на него падала тень от широкополой шляпы, похожей на циркульную пилу. И Иоганна сказала:
— Должен же кто-то о вас позаботиться именно потоку, что вы все делаете себе во вред.
Люси пила чай маленькими глоточками, она ничего не съела, она не чувствовала голода теперь, на девятый день своего добровольного заточения.
— Ошибаешься, Иоганна. То, что я взяла на себя, я делаю и себе на пользу. Так меня меньше мучают воспоминания и я чувствую большую близость с друзьями.
— Ваши друзья этого не знают, — с горечью сказала Иоганна, — они, вероятней всего, и понятия не имеют о том, что вы на себя взвалили здесь, вдали от них. И если бы у вас был хоть какой-то запас, я имею в виду физический, а то ведь вы и так кожа да кости.
Она покачала головой, нервно теребя пальцы: как ей справиться со взятой на себя ответственностью при таком решительном отказе от какой-либо заботы о здоровье? Уговоры ничего не дали; попытка тайно делать еду более калорийной была тут же разоблачена. Разговоры о долге Люси перед наукой не произвели никакого впечатления, и даже ее уход, задуманный как резкое предупреждение, не оказал никакого действия.
Кто-то упорно трезвонил у входной двери: до них доносился почти непрерывный звонок. Иоганна не обращала на него внимания, пока вконец не разозлилась, тогда она поднялась и вышла, шея ее покрылась багровыми пятнами, а гневные слова так и рвались с языка. Сквозь стекло входной двери против света она увидела огромный бумажный пакет — ешьте больше фруктов! — и подвижный, мотающийся букет сирени, а над пакетом — казалось, оно прямо из него росло — веселое, упругое лицо, увенчанное торчащими во все стороны светлыми волосами, будто ананас своим похожим на взрыв плодолистником. Да никак это профессор Пич! Он не только обхватил руками, прижимая к груди, пакет с фруктами, цветы и два свертка, но и ухитрился при этом еще зажать между пальцами бутылку коньяка и две книги, а на звонок то наваливался плечом, то колотил его локтем. Увидев этого человека, Иоганна сразу вспомнила его обычные дружески — бурные налеты, еще на ходу сменила гнев на милость и приветствовала шефа Люси Беербаум словами:
— Да что вы так звоните, господин профессор, не на пожар ведь!
Она взяла из его веснушчатых рук книги и бутылку и помогла освободиться от букета. На свой вопрос: «Ну, как поживаем?» — он явно ожидал получить успокоительный ответ. Но когда уже в холле он отдал Иоганне пакет и свертки и шагнул к двери гостиной, с порога громыхая приветственными словами, она, против всех их правил, попросила его обождать и вообще высказала сомнение, сможет ли госпожа профессор Беербаум принять сегодня обычно столь желанного гостя. Однако Пич подчеркнул твердость своего намерения тем, что закурил темную «Колорадо Кларо» — сигару, один размер которой свидетельствовал о желании пробыть здесь долго, и пока Люси на своей тахте занялась подсчетами, когда у нее было последнее свидание и когда, следовательно, ей дозволено следующее — раз уж для нее главное оказаться в совершенно тех же условиях, что и заключенные, — он принялся мерить шагами холл, разглядывать фигуры на репродукциях, росписи античных ваз, даже подмигнул Тезею, сражавшемуся с Минотавром, и не выказал ни особой благодарности, ни радости, когда Иоганна, вернувшись, разрешила ему пройти в гостиную.
Из кухни она услышала его непринужденное приветствие, голос его гремел. Радостная оживленность, видно, должна была скрыть тревогу, но ведь между ними раз и навсегда установился этот тон, почему он должен был его изменить при обстоятельствах, которые он не только не мог признать, но даже в курсе которых толком не был.