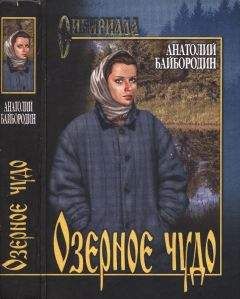Ознакомительная версия.
Но тут Елизар приметил, что и Дарима с веселым смущенным любопытством нет-нет да посматривает на него, и когда взгляды их заполошно и безоглядно слились над столом, девушка робко и боязливо, но все же ласково улыбнулась широкими губами, похожими на лепестки таежной сараны, алеющей в сумрачнозелёных чащобах.
Долго ли, коротко ли, но, уже отрешенные от гомонящего застолья, увязанные незримыми нитями, не таясь, смотрели друг на друга, — тек их безголосый, то настороженный и пугливый, то игриво воркующий разговор, словно они, уже близкие, родные, сошлись после долгой разлуки и не могли наговориться, наглядеться и ждали, не могли дождаться край застолья, чтобы обняться, оставшись наедине в тихом укроме; а потому, когда вновь затеялись танцы, когда он взял ее покорную руку-ледышку, повел через ограду, самое заветное промеж них было уже безголосо молвлено.
Запали висящие над столами лампочки, горящие от движка, что тракторно тарахтел под навесом. Елизар вместе со всеми переминался с ноги на ногу под тянучие, навзрыд, звуки давнишнего танго; и не узнавая себя, во хмелю вольного с девчатами, придерживал Дариму нервно вздрагивающими пальцами. Она почуяла, засмеялась:
— Что ты меня держишь как фарфоровую куклу. Боишься уронить?
— Боюсь… — отозвался Елизар перегоревшим, сиплым голосом.
Смелее глянул на нее — выгуль-девка: клетчатая рубашонка едва сходится на груди, темно-вишневая юбка, подрубленная выше огруглых колен, трещит по швам; а вроде недавно мельтешила по улице голенастая пигалица, поминутно вытирая голыми, шершавыми ручонками вечно мокрый нос.
— Могу, Дарима, и покрепче обнять, — Елизар так лихо прижал ее к себе, ощутив ожогом, как напряглась и раздавилась девья грудь, как изогнулось в противлении ее крутое, излучистое тело, как сверкнули ночной, подлунной водой распахнутые глаза.
Елизару стало не по себе, но он тут же и опомнился, передернувшись от скребущего по лицу усмешливого взгляда городской крали, что стояла наособину, прислоняясь к пряслу заплота. Елизар видел, как ее приглашал Дамбиха, потом еще кто-то, но Цырендулма-Анжела всякий раз, горделиво мотая головой, отшивала ухажеров. Когда Елизар спиной учуял ее взгляд, когда перехватил его, то еще навред городской залете склонился к Да-риме так, что щеки их нет-нет да и касались, и стал нашептывать на ушко:
— Хорошо, что ты приехала. А то бы со скуки сдох, напился как зюзя.
— Тут и без меня девушек хватает, — взметнула на него озорные глаза, указав ими на городскую диву.
— Я тебя ждал.
— Да-а? — с недоверчивой улыбкой покачала головой.
— И теперь не отпущу.
— Ого! — удивленно всмотрелась в Елизаровы глаза и засмеялась, — Ишь ты какой шустрый.
— Да уж такой… Давно хотел с тобой увидеться.
— И что тебе мешало? Девушки?.. Знаю, знаю…
— Какие девушки?!
— А Вера? — Дарима погрозила ему пальцем. — Я все про тебя знаю.
— Да, Вера… Замуж вышла за парашютиста-пожарника… Нет, честно слово, мне так хотелось с тобой увидеться…
— И мне… — она пытливо заглянула в его глаза, отчего Елизар, отведя взгляд, благодарно обнял девушку и смущенно затаился.
Он смутно помнил, как после танцев и застольных здравиц очутились они возле овечьей кошары, в глухой и прохладной тени; не помнил, как слились их губы, с коих еще слетал пугливый, судорожный шепот. Потом Елизар краем глаза приметил: парни вывернули из-за угла и тут же исчезли, и среди них привиделся Бадма Ромашка. Ожила былая тревога, прихлынуло стылой водой предчувствие беды, но так уж разгорячилась всполошенная кровь, что и тревога, и предчувствие тут же угасли в жарком бреду. И когда он прошептал, что любит ее, что жизнь без нее не в жизнь, Дарима опомнилась и, зло оттолкнув Елизара, убежала в ограду, где еще догуливали крепкие старики, мялись танцующие пары и шелестело осенней листвой утомленное танго.
Смущенный, виноватый, вышел следом Елизар и тут же высмотрел, как Дарима что-то быстро и сердито выговаривает Бадме Ромашке, который слушал, набычив шею, потом круто развернулся и пошел из ограды. Елизар повинно глянул ему вслед, потом снова выискал глазами Дариму, и вина перед ее прежним ухажером тут же истаяла в нестерпимой нежности. Чтобы утихомирить взыгравшую душу, завернул за угол дома, присел на завалинку под навесом и лишь запалил папиросу, как и увидел перед собой Баира, малого брата Баясхалана и Даримы, приземистого, но крутоплечего паренька, яро сжимающего кулаки. «Однахам, Раднахам, будет драхам…» — усмехнулся Елизар на бурятский лад, не испугавшись, потому что… пьяному море по колено, да и не верил, что завяжется свара: для старожилых бурят испокон степного века званый и желанный гость — неприкасаемый, и быстрее родичу бока намнут, нежели гостя тронут. Конечно, если гость не пакостник…
— Выйдем поговорим, — мотнул кудлатой головой задиристый хубун[91], прилетевший заступиться за обиженную сестру.
Елизар встал с завалинки, и, выкинув недокуренную папиросу, глухо отозвался:
— Говори здесь, Баир.
Во хмелю не ведающий страха, обреченно и отчаянно прикинул: ежли миром не поладят, придется, не дожидаясь кулака, свалить малого с ног и пробиться в ограду — там уж, поди, не дадут завязаться драке. А иначе хана — еще трое архарцев на шум привалили, обступили, — сытые, хмельные, гораздые поразмяться. «Или уж отпихнуть малого, и… дай бог ноги…» — решил было Елизар.
— Не бойся, они тебя не тронут. Пойдем поговорим.
— Говори здесь.
— Боишься… Чего тебе надо?.. Чего ты к моей сеструхе лезешь?
— Лезешь?.. Да мы с ней с пятого класса дружили…
От садкого удара в скулу чуть не сел на завалинку; после чего, как и бывало в драках, уже не помня себя, яростно кинулся на Баира, свалил его наземь и упал сверху. Несдобровать бы Елизару… звероватые пареньки завертелись, норовя достать ногами… но тут, услыхав гортанные матерные крики, отчаянные взвизги, прибежал Дамбиха-хулиган и, смекнув дело, по-хозяйски разметал бузотёров.
— Тебя, Дамбиха, звали? — оскалился Баир, потирая содранную, испачканную землей щеку. — Без тебя разберемся.
— Трое на одного?! Ах ты, щенок! — поймал малого за ворот и рванул, побледневшего, с земли. — Поговори еще…
Он опустил его на землю, и Баир в злом захлебе стал орать по-бурятски, на что Дамбиха ответил по-русски:
— Тебе какое дело?! Ты-то чего лезешь, сопля?! — (Елизар смекнул, что толкуют про него с Даримой). — А теперь миритесь, — он обнял сразу Елизара и Баира, потом легко сдвинул их лбами. — Пока не помиритесь, не отпущу.
— Да я-то ничего, — тряхнул плечом Елизар. — Это он… Но если чем обидел, Баир, ты уж прости.
— Во-во, правильно. Теперь ты, Баир, проси прощения. Давай, давай — он же наш гость.
— Ладно, — буркнул малый, — извини.
«Извини» прозвучало так: мол, погоди, сука, мы тебя еще прищучим в темном проулке, костей не соберешь.
— И вы, соколики, смотрите у меня, — Дамбиха-хулиган с колючим прищуром оглядел парней, смирно притаившихся в тени. — Кто моего друга пальцем тронет, тому несдобровать. У меня разговор короткий, — довольно похлопал себя по необъятной груди. — А ты, Елизар, не бойся… не бойся — пока я здесь, никто тебя не обидит. Ты наш гость. Но… если Дариму обижешь, несдобровать. Пошли, выпьем за Жаргаланту.
— Ладно, сейчас подойду, — ответил Елизар, тряскими руками выскребая из пачки «прибоину»; и когда Дамбиха ушел, прибежала испуганная Дарима…
* * *Дальше он помнил все белыми, сияющими в месячной ночи, клочкастыми вспышками: вот он выпил и расцеловался с Дам-бихой, растирая по лицу счастливые слезы; вот завел русскую песню — «Живет моя отрада в высоком терему…», и неожиданно подхватило ее молодое застолье, и наособину позванивал голос Даримы; вот с большим опозданием пригнали с пастьбы сытую отару, и Елизар, подпарившись к хозяйским ребятишкам, вместе с Даримой бестолково мотаясь среди блеющей отары, загонял, силком пихал овец в широкий загон, успевая, будто ненароком, обнять девушку; а уж впотьмах, когда над благоухающей землей, над хангал дайдой, расцвел сверкающей россыпью Млечный Путь — гусиная дорога, и над бобылистой березой взошел красноватый, дородный месяц, когда парни запалили трескучий, мохнатый костер, огненные брызги которого посеялись в небе и вызрели звездами, когда вокруг дико пляшущего огня завился, раскачисто поплыл бурятский ёхор, похожий на русский хоровод, Елизар, стиснув покорную Даримину ладонь, кружился вместе с молодью, и хотя не подпевал, ибо из бурятских напевов ведал лишь шутливое русское «ёхарши, ёхарши, все бурятки хороши!..», хоть и мало чего понимал, а и тоже всплескивал руками, ухал полуночным белым филином. А уж месяц забрался выше по небесному увалу, побледнел, и степь — теперь воистину белая, воистину сагаан гоби, или сагаан хээрэ, — словно присыпалась инеем; и Елизару вдруг страсть как захотелось промчаться по голубовато-белым увалам на халюном[92] коне, и — непременно с Даримой; и когда она согласилась, когда уговорили Баясхалана, сразу же оседлали двух коней, Елизару достался сивый, Дариме — вороной, слитый с ночью, мигающий в темени белой отметиной, когда ветром отметало со лба челку. Забравшись в седла с прясел загона, от самого гурта, гремящего ёхором, пустили коней в широкий, отмашистый намет; и сразу же ночной ветер затрепал Елизаров чуб, стыло впился в загорячевшие губы, с которых пеной срывались диковато ликующие вопли:
Ознакомительная версия.