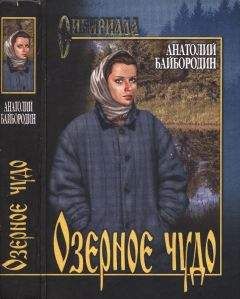Ознакомительная версия.
Для храбрости осушив по чарочке крепкого портвейна «три семерки»…они гуляли на пару, топя стыд в вине… раздухарившись, явились в клуб на скачки, — так о ту пору величался стильный танец шейк, сменивший буги-вуги, хали-гали и твист. Елизар издали приметил парней, торчащих возле клуба, откуда уже рвалась на волю ревучая музыка. Подойдя ближе, решил было пустить Дариму вперед, чтобы войти в клуб, вроде, каждый сам по себе, но сообразил, что обидит девушку, что таить им нечего… разнесли сороки на хвостах по заугольям и подворьям… а смекнув, что терять им нечего, еще крепче обнял Дариму и бодро подмигнул ей. Но многоверстным и надсадным почудился парню, а и деве тоже, короткий путь от калитки до клубного крыльца, ибо шли возлюбленные встречь напористым, усмешливым взглядам, оголившим, исшарившим их вдоль и поперек, словно брели из последней моченьки против колючей, жалящей щеки снежной пурги. По окаменелому лицу девушки видно было, как она, бедная, страдала.
Варнаковатые русские парни, по коим давно уж каталажка[100] уливалась горючими слезьми, посиживали на перилах, словно петушки на насесте, коптили вечернее небо папиросным дымом и, заливая срамные байки, ржали застоялыми жеребцами на весь дремотно обмирающий березовый парк, обступивший клуб.
Дарима, даже не поведя смоляной бровью, презрительно отвернувшись, гордо вошла в клуб; и Елизар бы с превеликой радостью шмыгнул мимо хмельной шатии-братии, но это бы означало вызов, и после танцев алчущая крови братва поджидала бы Елизара возле клуба. Ладно, ежели нос набок своротят, красной юшкой обагрив морду, а могут и поизгаляться всласть и так от-буцкать, что век будешь на аптеку робить. Словом, пришлось с подобострастным достоинством пожать вяло протянутые руки, достать пачку болгарских сигарет с фильтром, которую варначье тут же и ополовинило.
Разбухшую дверь открыли на полный отмах, и валом валил из клуба загустелый потный дух, взбаламученный пляской и диким негритянским ором «Бони М», который парни перевели на деревенский лад: «Варвара жарит ку-уу-уррр!..». Возбужденный заморским ревом, Елизар бы нырнул с головой в оглушительный ор, в бешеную пляску, но его придержал рослый, черномордый парень по кличке Чечен, который и по малолетке, и позже не раз хлебал лагерную баланду, чем и кичился перед зашуганной братвой, верховодил среди архаровцев или, как ботают по фене, держал мазу. Хищно блеснул желтой фик-сой, цвиркнул слюной сквозь зубы, и, доверчиво склонившись к Елизару, спросил:
— Твоя чувиха? — мотнул курчавой головой в сторону двери, за которой уже растаяла в полумраке Дарима.
Елизар невольно покраснел, растерянно улыбнулся и пожал плечами.
— Твоя… Ништяк бикса! — загнул толстый палец, в отличие от других не иссиненный тюремными наколками-ходками. — Ну и как она, ничего?
— Да ничего, — силком растянув сведенные ознобом губы в вымученную улыбку, опять смутно пожал плечами Елизар, уже затяготившись добра не сулящим, блатным базаром.
— Ну и как она… — едва он, матюжник лагерный, успел досказать, как причиндалы его и подсевалы от гогота посыпались с крыльца, и Елизар, хоть и заломила душу горькая обида, хоть и ненависть к Чечену помутила глаза, все же улыбнулся и, чтобы усмирить дрожащие руки, отбросил недокуренную сигарету и запалил другую.
Злобно и тоскливо понял, что с жиганьем надо миром ладить, иначе… так выдубят кожу, что небо покажется с овчинку, костей не соберешь после окаянных костоломов, можно домовину заказывать; нет, дешевле миром уладить, потому что… на кого обижаться?! — суки лагерные, пьянь подзаборная.
— Нет, ты, карифан, побазарь с нами, скажи, как она, — Чечен ухватил Елизара за плечо, когда тот пошел было в клуб.
Миром и ладом не завершился бы поганый «базар», если бы, как весной на проводинах Баясхалана, не выпал из густой темени Дамбиха-хулиган, которого Чечен, хоть и ростом был на голову выше, боялся как черт ладана. Хотя Дамбиха и бражничал с лагерным варнаком, но срамных намеков, касаемых бурятской родовы, конечно бы, не потерпел.
— Чего развеселились? — не здороваясь, угрюмо спросил Чечена, угодливо соскользнувшего с перил. — Выпить есть?
— Откуда?! — суетливо отозвался Чечен. — Разве что щенков пошмонать.
— Дайте закурить, — Дамбиха, шаря налитыми кровью глазами по утихшим «щенкам», вытянул руку, и Елизар торопливо подсунул услужливо отпахнутую пачку. — Ну как, паря, жись?
— Жись… успевай, паря, держись, — бойко, по-деревенски отозвался Елизар.
— С Даримкой сошелся… — Дамбиха тяжело и мутно всмотрелся в Елизара. — Не нравится мне ваши шашни. Ты или женись, или не дури девку. Я на проводинах пожалел тебя, парень, но если Даримку обидешь… башку оторву. Понял?..
После танцев за Даримой увязалась подружка Зоя, белая, пухлая, болтливая как сорока, похожая на Веру Беклемишеву, бывшую коварную зазнобу Елизара; и зазвенели в низенькой избенке граненые чарки, туманом выстелился сигаретный дым, заиграл принесенный Даримой с гурта магнитофон, и пьяный Елизар, забыв раскосую подругу, скакал под музыку с синеглазой, игривой девчушкой, стуча копытами в скрипучие половицы; а уж под сладкие стоны рокового танго так обнимал и оглаживал распирающие тонкое и скользкое платье щедрые Зойкины телеса, что охмелевшая дева повисла на его плечах, томно смежила белесые ресницы. Бог уж знает, к чему бы привели пьяные обжимания, но Елизар опомнился; далеко-далеко, словно в степи, на островке бледного света, увидел одиноко, неприкаянно сидящую Дариму; увидел, опалился виной и уже не зарился на Зойку — синеглазую, пышногрудую гусыню.
* * *
Ревнивая бабья колготня, косые взгляды, насмешки парней раздражали Елизара и Дариму, но — лишь светлым днем, ночами же руки возлюбленных сплетались в избяной темени и тиши, голоса сливались в предрассветное птичье журчание; и двадцать лунных ночей и синих рассветов, дарованных судьбой или уворованных, прошумели со свистом, как одна ветреная мартовская ночь, отпели, словно зимняя заря. Приспел срок Елизару ладиться в университет, где надо было перевестись на заочное, а потом решили сыграть свадьбу; и в остатний вечер, лишь явилась Дарима, кинулся парень в винополку прикупить винца и закуски, чтобы устроить прощальный сабантуй.
Вернулся и, замычав от досады, хлопнув по беспутой голове, увидел беспризорно брошенное на столешне материно посланье, писанное старшей сестрой под осерчалый и слезливый говорок матери. Мать серчала: дескать, наслышана от родичев, что сынок ненаглядный…стыд и срам на ее седую голову!., не убоявшись Бога, без родительского благословения, без Божьего венца окрутился с Галсанкиной дочкой. Деваха она бравая, смалу ра-ботливая, домовитая и душа ее добрая, а все одно, не будет ему, чаду неразумному, материного благословения. Оно, конечно, еравнинские буряты, да особливо дугарнимаевская родова, люди простые, к русским приветные, а все живут своим степным уставом, и не след нашему брату совать русский нос куда не просят, — дружба дружбой, а табачок врозь; а посему надо Елизару, коли не поздно, отступиться от девки, пожалеть и не морочить ей голову. Либо уж жениться, коль Дугарнимаевы не супротив того.
По тусклому, ускользающему взору девушки Елизар доспел, что письмо читано, пережито, благо, что хоть слезами не залито; и весь грустный вечер материны причитания городились промеж них огорожей, серой и тоскливой, мешая блажить о вольном, любовном, заставляя думать о будничном, земном.
— …Ты скажи прямо, русским языком, ты по любви со мной или?.. — пытал он, разметавшись по широкой кровати с литыми чугунными козырьками; и Дарима, смугло светясь прохладной наготой, завесив Елизарово лицо проливнем смоляных волос, тут же переспросила:
— Или как гулящая?..
— Ну ты, милая, к словам-то не цепляйся. Я серьезно…
— Ты еще сам не решил, себя и спрашиваешь.
— Нет, я решил: хана мне без тебя… Нет, но ты скажи: ты по любви?
— Дурачок ты, дурачок, — сухо и нежно поцеловала его в лоб, в щеки. — Если б не любила… Думаешь, легко мне.
— Понимаю, милая ты моя, любимая… — сострадательная душа его виновато заныла, взгляд затуманился слезами. — Ну, ничего, поеду в Иркутск, заверну к матери, и всё улажу. Мать, она добрая, поймет, что мы любим друг друга. Да и никто нам не указ…
— Никто! — не желая думать тревожную думу, торопливо согласилась она. — А жаль, что ты не родился бурятом…
Елизар засмеялся, пытаясь вообразить себя бурятом.
— Да я уж подле тебя бурятом стал. Би шаамда дуртээб… Правильно, Дарима?
Девушка привычно улыбнулась его корявому выговору и с кокетливой ревностью спросила:
— И многим ты говорил про любовь?
— И еще кое-что… — решил он подразнить ревнивую зазнобу. — Шы намэ талыштэ? Верно сказал?
Ознакомительная версия.