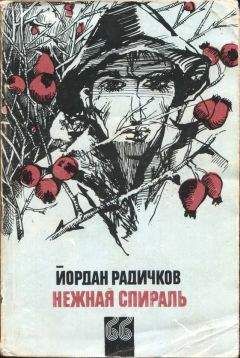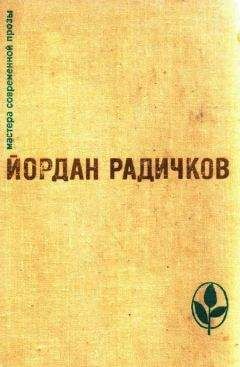Церемония награждения господина Лундквиста окончилась. Пока народ шумел вокруг, я еще немного посидел, думая о японцах и о своем открытии. Потом я попрощался с шведскими гостями, а когда пошел к выходу, обратил внимание на то, что когда проходишь мимо стеклянной витрины — а таких витрин в гостинице много — видишь не то, что выставлено в витрине, а лишь свое собственное отражение. Я решил хранить свою тайну про себя и при случае проверить, прав ли я.
Несколько следующих дней я жил этой навязчивой идеей. И вдруг услышал по софийскому радио сообщение, которое заставило меня вздрогнуть. Сообщение гласило: крестьяне с Соломоновых островов пожаловались японскому посольству, что их нивы и сады обирают по ночам неизвестные люди в рваных военных мундирах. Крестьяне предполагали, что это японские солдаты, укрывающиеся в джунглях со времен второй мировой войны. Получив от своего посольства соответствующую информацию, — сообщало далее Болгарское радио, — японское правительство выслало самолеты, которые разбросали над джунглями Соломоновых островов листовки с текстом: „Сдавайтесь! Война окончена!“ Через два дня после этого сообщения по телевизору показывали снятый одной канадской компанией фильм о Соломоновых островах, из которого я узнал, в какой нищете и каком убожестве живут обитатели Соломоновых островов. При этом оставалось только гадать, как же все еще существуют в джунглях этого мира японские солдаты времен второй мировой войны. В таком аду могли остаться только группы людей, подчиняющихся железной дисциплине и отчасти впавших во вторичное одичание. Все это дало мне основания предположить, что благодаря своему высоко развитому чувству дисциплины забытые строительной компанией японцы продолжают работать в пустотах стен японского отеля, поддерживая в исправности скрытые от человеческого глаза механизмы и установки. Потому я и говорю, что вздрогнул, услышав названное выше сообщение с Соломоновых островов. Я почувствовал себя, как охотничья собака, которая после долгих поисков напала на след дичи и, привстав на кончики пальцев, дрожит от напряжения. Писание в немалой степени можно сравнить с поисками дичи или хотя бы следов дичи. Я знаю это по опыту и знаю также, что если и нападешь на след, это вовсе не значит, что след непременно приведет тебя к логову зверя. Впрочем, в этом и заключается большая игра человека с жизнью, подобная игре писателя с сюжетом. Писатель очень редко приводит читателя в логово дикого зверя, чаще он совершенно изматывает его, ведя по следам, оставленным зверем, и сам испытывает при этом такое отчаяние, какое можно сравнить лишь с отчаянием утопающего, схватившегося за соломинку.
Пока я еще носился со своей навязчивой идеей, мне неожиданно предоставилась возможность снова посетить японский отель, а именно зал „Киото“. Киото — это город, древняя столица Японии, и один из залов отеля „Витоша — Нью Отани“ носит имя этой древней столицы. Лет десять назад я там побывал, сейчас не стоит отвлекаться и рассказывать о Киото, упомяну только, что город окружен холмами и что в старые феодальные времена один из феодалов приказывал летом покрывать зеленые холмы белым шелком, имитируя таким образом зимний пейзаж. Тысячи японцев осуществляли грандиозный замысел своего безумного феодала, превращая зеленые летние холмы в зимние… Сколько же шелка требовалось, чтобы одеть в него зеленые бамбуковые холмы!.. В Киото до сих пор можно увидеть старинные ткацкие станы под деревянными навесами, перед ними сидят босоногие ткачи, искусно вводя в шелковую ткань сосны, огнедышащих драконов, цветы или птиц… Гостем Болгарии несколько дней был Дайсаку Икеда, и я имел честь быть ему представленным Руменом Сербезовым, много лет проработавшим послом Болгарии в Японии. Господин Икеда следовал дальше в Париж и перед отъездом давал части людей, с которыми он встретился в Болгарии, прощальный обед в японском отеле, в зале „Киото“. Отправляясь на этот прощальный обед, я вышел пораньше, чтобы успеть пройтись и получше обдумать свою навязчивую или сумасбродную — я и сам не могу ее точно определить — идею. Я издали увидел, как на восточном фасаде отеля через равные интервалы вспыхивают цифры, сообщая, который сейчас час и какова температура воздуха. В тот день было много туристов, отель бесшумно открывал перед ними двери, поглощал их группами, затем двери так же бесшумно закрывались и поджидали следующую группу, которая суетилась около своих чемоданов, незаметно придвигаясь к дверям. В этот момент отель показался мне похожим на гигантское животное, которое спокойно и лениво поджидает добычу, с известной меланхолией и безразличием открывает свою стеклянную пасть и поглощает пестрые многоязыкие группы, суетящиеся возле его пасти. Это меланхолическое, серое, гигантское животное распределяло ничего не подозревающих туристов по своим гигантским венам и артериям, бесшумные лифты уносили их к его многочисленным внутренним клеткам. Своей климатической установкой, своей тихой музыкой гигантское земноводное постепенно высасывало у туристов содержимое их кошельков и карманов и через несколько дней с тем же безразличием и меланхоличностью выбрасывало их вон — истощенных, с покрасневшими глазами, постаревших на несколько суток…
Я подождал, пока площадка перед входом опустела, и вошел один. Стеклянные двери за мной бесшумно закрылись. Я посмотрел на них через плечо — они не прореагировали на мой взгляд. Двери открывались и впускали в себя только тех, кто шел снаружи, подобно пасти кита, которая открывается, чтобы всосать океанскую воду, и закрывается, задерживая планктон. Любая попытка выйти из этих дверей напрасна, на них недвусмысленно написано: „Выхода нет!“ У нас, как правило, все имеет вход и выход и много столетий вход и выход совпадали, я полагаю даже, что и у пещерного человека вход в его пещеру был одновременно выходом из нее. Но вот, во вторую половину нашего века, в разных местах стали появляться предупредительные надписи: „Выхода нет!“
В первое мгновение это ошарашивает, но постепенно мы и к этому привыкаем, хотя еще очень часто можно увидеть, как, например, в аэропорту кто-нибудь толкается в стеклянную дверь, пытаясь раздвинуть плечом ее сомкнутые челюсти и не обращая внимания на то, что через стеклянные эти челюсти выйти нельзя… Затем я увидел сложные часы, показывающие время на разных меридианах, потом витрины с темным стеклом, за которыми, сколько я ни всматривался, я опять не увидел ничего, кроме собственного серого отражения, скользнувшего по стеклу; потом я вышел в широкий холл и передо мной открылся внутренний японский садик из серого, волнообразно уложенного гравия.
Я остановился и вдруг почувствовал, сколь далек я от этого маленького сада, в извилистых бороздах которого посеяна вечность. Не меньше чем на тысячу световых лет отстою я от него, и он тоже отстоит от меня на тысячу световых лет, странный, загадочный, похожий на неподдающийся прочтению иероглиф… Однако, предаваться дальше созерцанию я не смог — почувствовал, что кто-то стоит у меня за спиной. Я обернулся, это был один из сопровождающих господина Икеды. Улыбаясь, он широким жестом пригласил меня последовать за ним в зал „Киото“. Я шел за ним и время от времени слышал какие-то звуки в стенах коридора. Я был почти уверен, что это мои японцы работают в пустотах бетонных стен. Оставалось лишь проверить свои предположения, и в голове у меня уже созревал план, как именно это сделать. Мне необходимо было остаться одному, но пока это было невозможно, потому что в конце коридора видны были сопровождающие господина Икеды, перед раскрытыми дверьми зала ярко светили юпитеры, тихо жужжали телевизионные и кинокамеры и вместе с господином Икедой встречали гостей. Меня удивило количество присутствующих японцев. Они в высшей степени учтиво кланялись на все стороны, кланялись и друг другу, улыбчивые, приветливые, и когда они улыбались, то приспускали веки и глаза превращались в узенькие щелочки. И через эти-то щелочки словно бы выглядывала вечность, черная и сверкающая. Нигде больше я не видел столько улыбающихся людей, сколько в Японии. Картина повторялась и здесь, в зале „Киото“. Тихая музыка струилась отовсюду, где-то далеко играли „Японские вишни“. Музыка, хоть и еле уловимая, предназначалась для присутствующих в зале гостей господина Икеды. Я сидел в напряжении, ожидая, не услышу ли я снова, как невидимые существа ходят поблизости и шикают друг на друга.
Долго ждать не пришлось, я услышал их совсем близко. Я сидел за маленьким столиком, недалеко от стены. У самой стены высилась целая Фудзияма детских игрушек, привезенных господином Икедой для болгарских детей. Не берусь описывать, что было в этой Фудзияме, могу сказать только, что все было очень красиво, необыкновенно разнообразно и ярко. За этой горой игрушек, фонариков, дудочек, значков, пестрых палочек, флажков и т. д. кто-то, и не один, двигался очень медленно, на цыпочках, внутри самой стены. Они медленно поднимались наверх к потолку, держались, вероятно, за какую-нибудь веревку. Но как ни старались они ступать тихо, их шаги рождали в пустотах какой-то металлический отзвук, он передавался дальше, подобно эху, и я слышал, как он распространяется по соседним стенам и по другим стенам за ними, пока постепенно не замирает совсем. Господин Икеда сидел за тем же столом, энергично и непрестанно курил и напоминал мне старый океанский пароход, отправившийся в кругосветное путешествие; только пароход может так дымить своей трубой! Господин Икеда ел мало, пил только воду, но курил он за весь зал „Киото“! Таким я его и запомню — в синем костюме, окутанного синим табачным дымом.