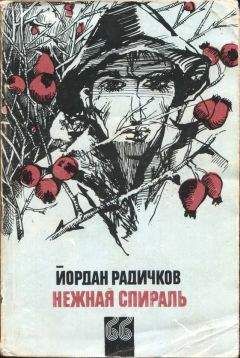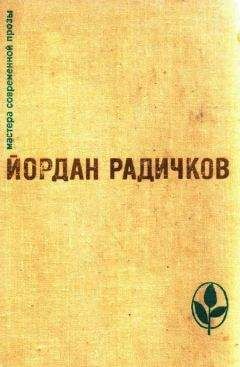„Так, так, та-ак!“ — сказал я себе. Дрожь у меня прошла.
Я остановился. Внизу, у самого берега, я заметил кошару. В густой пелене снега очертания ее расплывались, она стояла как-то покривившись, повторяя наклон берега. Скрипнула невидимая дверь, на улицу вырвалось овечье блеянье. Сиплый женский голос бранил кого-то, сквозь снег замаячили грязные силуэты овец. Несколько стогов сена лежали опрокинутые, потоптанные овцами, они говорили о том, что все запущено и заброшено. Со стороны реки в нос ударил тяжелый запах падали. Белесая собака показалась между поваленными стогами, прислушалась к долетающему из ущелья собачьему лаю и вою, тоже залаяла и скрылась в кошаре. Что-то здесь, в этом ущелье, тревожило собак, лаем и воем они передавали друг другу свою тревогу.
Кошара осталась позади, дорога повернула вправо и пошла верхом вдоль кустарника. Река удалялась, теряясь в низине. Мои приятели снова выстрелили, я поднял голову и увидел, как высоко в небе сквозь косой снег летят дикие утки. Они летели против ветра, в том направлении, откуда доносился далекий собачий вой. Я подумал, что лучше всего мне спуститься логом на самый берег реки, и там, укрывшись за вербами, я, быть может, сумею свалить выстрелом летающую утку… Так я и сделал. Внизу ветра не было, снег тихо падал на землю. Я устроил себе удобное место для сидения, расположился, можно сказать, почти как на престоле. На расстоянии ружейного выстрела внизу текла река, на расстоянии выстрела надо мной было небо, и если бы в ущелье появились утки, они непременно должны были пролететь этим удобным для стрельбы коридором. Медленно светало, один скат, поросший терновником и невысоким дубняком, скрывал от моих глаз кошару, но дальше я видел снеговые шапки с размытыми очертаниями, над шапками вился сизый дым. Село Прибой оживало и, может быть, вообще уже рассвело, но, как я сказал раньше, во время снегопада день наступает медленно, едва заметно. Не выбравшись до конца из сумерек, он прячется в них, внутри, и лишь одним глазом поглядывает на ущелье. Какое-то особое напряжение, хотя и затаенное, все еще владело мной; напряжение излучала вся снежная теснина, и видимая, и невидимая ее части. Это было царство молчания, нарушаемого время от времени выстрелами моих друзей, двигающихся по другому берегу реки, и далеким лаем или воем собак, обрывки которого приносил ветер. Ветер гудел где-то наверху, закручивал там снежные вихри, играл со снегом, а я сидел в затишке, в узкой ложбинке, поставив ружье между колен. Я чувствовал, как снег легко и нежно засыпает меня, превращая в неподвижный белый холмик. На пролет уток я уже не надеялся. Мои приятели шли по другому берегу и своими ружьями сметали все живое, опустившееся на воду. А дикие утки, поднявшись, почти без исключения летят против ветра. Мне не оставалось ничего другого, кроме как сидеть и терпеливо ждать. Снег падал все так же монотонно. Воображение мое отправилось скитаться по теснине и постепенно вернуло меня в дождливый день поздней осени, к тому же селу Прибой…
Шел холодный дождь, низкие тучи со всех сторон обложили ущелье. Вода приобрела металлический оттенок, она текла спокойно, но властно, местами вздымаясь огромными горбами, словно какая-то гигантская рыба вспучивала воду и, прежде чем спина ее успевала блеснуть над водой, уходила обратно на дно. Никто не мог сказать, насколько тут было глубоко. Мы хоть и шли вдоль реки, все же держались от нее на почтительном расстоянии, чтоб если ненароком поскользнешься, не очутиться в ее властных объятиях. Едва ли река выпускала кого-нибудь из своих объятий живым. Сырость и холод сочились отовсюду, проникали через поры, добирались до души и выстуживали человека изнутри. Небо нависло так низко, что плохо были видны склоны ущелья — их прикрывали тучи, которые ветер тяжело и медленно гнал против течения реки. В этот холодный и мокрый день ущелье казалось мне каменным и совершенно пустым. Растительность на склонах была скудная, какой и бывает обычно растительность, пробившаяся на камнях и в расщелинах скал. Глаз не замечал ничего живого, кроме низко летящих диких уток. Повторяя извилины реки, они летели на юг, к Греции. В этом пустынном ущелье мы наткнулись на овечий загон. Людей видно не было, грязные овцы стояли в глинистой жиже и смотрели на нас. Из-за постройки вышла собака, но ничего интересного в нас не усмотрела, зевнула и вернулась назад. Там она, скорее всего, лежала в укрытии. Вокруг были разбросаны трупы овец, основательно выстиранные дождями. Дохлые овцы покачивались и у самого берега реки. Кто и зачем бросил здесь падаль, мы не могли понять. Вид ее, пустынные берега, дождь, примолкшие под дождем живые овцы, низкое небо, которое надвигалось на нас сверху медленно и тяжело, словно танк, который каждую секунду может рухнуть в ущелье и придавить нас всех — все это действовало угнетающе. Я был с сыном и еще с одним приятелем-охотником, Панко. На фоне безрадостного пейзажа только голубые глаза Панко светились тихой приветливостью, внушая надежду на лучшее. У сына очки были мокрые от дождя, и мальчик, вероятно, почти не видел суровой и мрачной теснины, а если и видел, то смотрел на нее, как смотрят сквозь стекло, по которому безостановочно течет вода. При этом я не сказал бы, что ущелье выглядело зловещим. Однако в его мрачности таилось что-то загадочное и таинственное. Поздняя осень мощно заполонила окрестности, она выметала из ущелья все живое, расчищая путь зиме.
(Стремительно пронесся чирок, я видел его несколько мгновений — он спикировал низко над водой и исчез то ли в камышах, то ли в снегу, бог его знает!)
Такую погоду мы обычно называем собачьей. Мне кажется, человек оклеветал дождливую пору осени, он готов взять у осени только сухие дни, яркость красок, бабье лето, и ничего больше! Не стану уверять, что так уж приятно мокнуть под дождем, когда все вокруг неприветливо и уныло, но и в такую погоду меня охватывало чувство, будто вокруг происходит какое-то таинство, и, повернувшись спиной к ветру и дождю, я прислушивался к далеким позывным невидимых сквозь дождь диких гусей, разметанных и потерянных во мраке тяжелых туч. Не видя, можно услышать низко над головой и позывные диких уток, а порой и уловить свист их крыльев. Сотни и тысячи крыльев свистят в воздухе, и почудится иной раз, будто сами тучи тяжело взмахнули серыми крыльями и под плеск дождя грузно проплывают по каменному ущелью. И никакой другой птицы не увидишь и не услышишь! Иногда эти северные путешественники высыпают на реку, одних мгновенно смаривает усталость, другие принимаются нырять, разыскивая на дне пищу…
Окаянная страсть! Стоит пойти дождю и низким тучам нависнуть над Софией, я начинаю нервничать, ни о чем другом уже не думаю, вот — говорю себе — самая пора… пора пролета… вот сейчас… ну же! И приводит меня окаянная страсть в это угрюмое, безрадостное ущелье, к овечьим трупам, к молчаливым овцам, по брюхо утонувшим в грязи.
Мы стали внушать друг другу, что в конце концов человек рождается среди стихий и, стало быть, среди стихий должен и жить, это нас в какой-то степени подбодрило, мы еще отшагали по ущелью и в поздний послеполуденный час, промокшие до костей, добрались до маленькой корчмы, едва заметной сквозь струи дождя, такой же серой, как окрестный пейзаж, и тоже промокшей до костей. Со всех сторон постройки стекала вода, корчма, казалось, вот-вот может скользнуть по склону и уплыть вниз по ущелью. Никаких признаков жизни корчма не подавала, стекла всех окон запотели. Мы кое-как отряхнулись, шумно потопали перед порогом сапогами и зашли все втроем в серый домишко. Домишко был невзрачный, корчма не составляла исключения среди других болгарских придорожных заведений того времени. Мы спросили корчмаря, может ли он приютить и накормить нас в своей мокрой берлоге, он охотно откликнулся, вполне войдя в наше положение — видно, мы были не первыми охотниками, искавшими у него приюта и пищи. Корчмарь был высокий худощавый человек лет шестидесяти, с продолговатым лицом, темной кожей и внимательным, дружелюбным взглядом. Глаза у него были ласковые, улыбка приветливая; приветливостью, можно сказать, веяло от всех его жестов, от походки, от тембра голоса. На голове у него была новая зеленая фуражка с отворотами, завязанными наверху зелеными шнурками.
(Три утки пролетели на расстоянии ружейного выстрела. Они показались мне легкими, как бабочки, и я с сожалением подумал, что утки долго голодали зимой и потому стали такими легкими. Я закопошился под снегом, но выстрелить не успел).
„Такие фуражки в Германии делают“, — сказал Панко и спросил корчмаря, не из Германии ли его фуражка, и тот сказал, что из Германии, ему привез ее приятель, шофер международных перевозок. Я не бывал в Германии, но Панко ездил туда и видел там фуражки такого фасона с поднятыми наверх отворотами, потому и проявил такую осведомленность. Корчмарь в свою очередь спросил нас, хотим ли мы выпить что-нибудь согревающее, подбросил дров в жестяную печурку, предложил и покормить, правда, не бог весть чем, но голодного человека всегда можно накормить, а сытого — никогда. Приветливого сухощавого корчмаря звали Иван, я грел руки о печную трубу и гадал про себя, какие ветра занесли его в эту заброшенную корчму. Согревшись, мы стали расспрашивать его, заходили ли к нему в последние дни другие охотники или, с тех пор как зарядил дождь, все предпочитают отсиживаться в тепле? Помянули мы и овец и ягнят, которые гибнут у загона в ущелье, но чабаны почему-то не закапывают их, а оставляют трупы под дождем, словно ожидая, что Струма выйдет из берегов, начнется всемирный потоп и тогда все мы провалимся в тартарары вместе с овечьими трупами! Мы узнали, что уже несколько дней охотники в ущелье не появлялись или по крайней мере не заглядывали в корчму, хотя едва ли найдется охотник, который не завернет сюда отдохнуть и погреться. Несколько недель назад было много диких гусей, поздно вечером они пролетели низко над корчмой, одни сели на воду, другие на поля и попортили немало посевов. „Озимых?“ — так и подскочил Панко. „Озимых, — подтвердил корчмарь, — за поворотом озимые посеяны, дикие гуси туда так и падали“. „Так это же озимый гусь! — воодушевился Панко. — Это же малый гусь, его еще цыганом называют!“ И он продолжал громко сокрушаться — надо же, как это мы не оказались здесь, когда на озимые опустилась дикие гуси… Дикие гуси были главной страстью Панко.