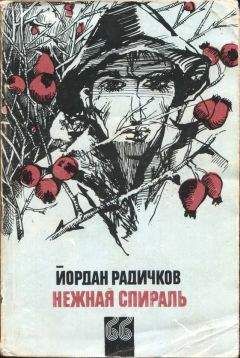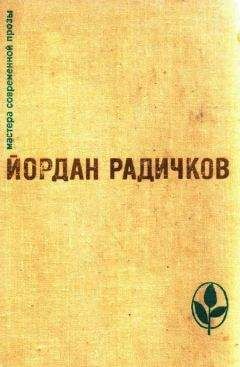(Стремительно пронесся чирок, я видел его несколько мгновений — он спикировал низко над водой и исчез то ли в камышах, то ли в снегу, бог его знает!)
Такую погоду мы обычно называем собачьей. Мне кажется, человек оклеветал дождливую пору осени, он готов взять у осени только сухие дни, яркость красок, бабье лето, и ничего больше! Не стану уверять, что так уж приятно мокнуть под дождем, когда все вокруг неприветливо и уныло, но и в такую погоду меня охватывало чувство, будто вокруг происходит какое-то таинство, и, повернувшись спиной к ветру и дождю, я прислушивался к далеким позывным невидимых сквозь дождь диких гусей, разметанных и потерянных во мраке тяжелых туч. Не видя, можно услышать низко над головой и позывные диких уток, а порой и уловить свист их крыльев. Сотни и тысячи крыльев свистят в воздухе, и почудится иной раз, будто сами тучи тяжело взмахнули серыми крыльями и под плеск дождя грузно проплывают по каменному ущелью. И никакой другой птицы не увидишь и не услышишь! Иногда эти северные путешественники высыпают на реку, одних мгновенно смаривает усталость, другие принимаются нырять, разыскивая на дне пищу…
Окаянная страсть! Стоит пойти дождю и низким тучам нависнуть над Софией, я начинаю нервничать, ни о чем другом уже не думаю, вот — говорю себе — самая пора… пора пролета… вот сейчас… ну же! И приводит меня окаянная страсть в это угрюмое, безрадостное ущелье, к овечьим трупам, к молчаливым овцам, по брюхо утонувшим в грязи.
Мы стали внушать друг другу, что в конце концов человек рождается среди стихий и, стало быть, среди стихий должен и жить, это нас в какой-то степени подбодрило, мы еще отшагали по ущелью и в поздний послеполуденный час, промокшие до костей, добрались до маленькой корчмы, едва заметной сквозь струи дождя, такой же серой, как окрестный пейзаж, и тоже промокшей до костей. Со всех сторон постройки стекала вода, корчма, казалось, вот-вот может скользнуть по склону и уплыть вниз по ущелью. Никаких признаков жизни корчма не подавала, стекла всех окон запотели. Мы кое-как отряхнулись, шумно потопали перед порогом сапогами и зашли все втроем в серый домишко. Домишко был невзрачный, корчма не составляла исключения среди других болгарских придорожных заведений того времени. Мы спросили корчмаря, может ли он приютить и накормить нас в своей мокрой берлоге, он охотно откликнулся, вполне войдя в наше положение — видно, мы были не первыми охотниками, искавшими у него приюта и пищи. Корчмарь был высокий худощавый человек лет шестидесяти, с продолговатым лицом, темной кожей и внимательным, дружелюбным взглядом. Глаза у него были ласковые, улыбка приветливая; приветливостью, можно сказать, веяло от всех его жестов, от походки, от тембра голоса. На голове у него была новая зеленая фуражка с отворотами, завязанными наверху зелеными шнурками.
(Три утки пролетели на расстоянии ружейного выстрела. Они показались мне легкими, как бабочки, и я с сожалением подумал, что утки долго голодали зимой и потому стали такими легкими. Я закопошился под снегом, но выстрелить не успел).
„Такие фуражки в Германии делают“, — сказал Панко и спросил корчмаря, не из Германии ли его фуражка, и тот сказал, что из Германии, ему привез ее приятель, шофер международных перевозок. Я не бывал в Германии, но Панко ездил туда и видел там фуражки такого фасона с поднятыми наверх отворотами, потому и проявил такую осведомленность. Корчмарь в свою очередь спросил нас, хотим ли мы выпить что-нибудь согревающее, подбросил дров в жестяную печурку, предложил и покормить, правда, не бог весть чем, но голодного человека всегда можно накормить, а сытого — никогда. Приветливого сухощавого корчмаря звали Иван, я грел руки о печную трубу и гадал про себя, какие ветра занесли его в эту заброшенную корчму. Согревшись, мы стали расспрашивать его, заходили ли к нему в последние дни другие охотники или, с тех пор как зарядил дождь, все предпочитают отсиживаться в тепле? Помянули мы и овец и ягнят, которые гибнут у загона в ущелье, но чабаны почему-то не закапывают их, а оставляют трупы под дождем, словно ожидая, что Струма выйдет из берегов, начнется всемирный потоп и тогда все мы провалимся в тартарары вместе с овечьими трупами! Мы узнали, что уже несколько дней охотники в ущелье не появлялись или по крайней мере не заглядывали в корчму, хотя едва ли найдется охотник, который не завернет сюда отдохнуть и погреться. Несколько недель назад было много диких гусей, поздно вечером они пролетели низко над корчмой, одни сели на воду, другие на поля и попортили немало посевов. „Озимых?“ — так и подскочил Панко. „Озимых, — подтвердил корчмарь, — за поворотом озимые посеяны, дикие гуси туда так и падали“. „Так это же озимый гусь! — воодушевился Панко. — Это же малый гусь, его еще цыганом называют!“ И он продолжал громко сокрушаться — надо же, как это мы не оказались здесь, когда на озимые опустилась дикие гуси… Дикие гуси были главной страстью Панко.
(На противоположном берегу снова выстрелили мои приятели. Я не видел их сквозь снег, но по выстрелам определил, что они расположились на высотках. Крикнул им: „Эгей! Эгей!“, прислушался в ожидании ответа, но они не откликнулись, а выстрелили еще раз. Над рекой медленно и высоко летела утка с белесым брюхом. Я не мог распознать, какая это утка, и подумал, что, может быть, балтийская. Стало холодно, я переменил положение. Краем уха я продолжал улавливать гул и вой, доносившиеся из глубины ущелья).
Корчмарь высказал сожаление, что нас не было в этих местах, когда на озимые опустились дикие гуси. Зато он вызвался отвести нас к разливам, где под вечер собирается множество диких уток. Вода в Струме сейчас поднялась, она переливается через дамбу, и за дамбой образовались широкие и тихие разливы. Место это недалеко от корчмы, надо только пройти через село Прибой, а там уж посмотрим, что к чему. Мы успели обсохнуть у печки, согрелись и теперь готовы были снова выйти под дождь. Корчмарь предложил подбросить нас до места, сказал, что у него под навесом стоит старая таратайка, малость потрепанная, но все еще уверенно одолевающая местные проселки. Мы спросили, удобно ли закрывать корчму в такую погоду, вдруг еще горемыка-путник постучится в поисках крова и тепла? Корчмарь улыбнулся рассеянной улыбкой и, окинув нас по очереди своим приветливым взглядом, сказал, что с тех пор как начались дожди, мы — его единственные посетители и что едва ли еще найдутся сумасшедшие, которые отправятся в такую погоду по ущелью… (Выходило, что мы были первыми сумасшедшими в этих местах).
Итак, мы с сыном и с Панко вышли на улицу. Корчмарь запер дверь изнутри, немного погодя мы услышали, как что-то урчит и постукивает, и когда повернулись в ту сторону, увидели, что к корчме подкатывает та самая таратайка. Это был старый автомобиль, серый, как дождь, помятый, на высоком шасси. Он, можно сказать, идеально сливался с окрестным пейзажем, ничем не нарушая его серости. Мы сели в машину и поехали по дороге, которую различал только корчмарь. Так как руль машины торчал очень высоко, корчмарь время от времени приподнимался на сидении, чтоб глянуть поверх руля, правильно ли мы едем. Дождь громко барабанил по жестяному верху, стёкла, как мы ни терли их, мгновенно запотевали. От этой поездки в памяти остался только серый цвет, бренчание железа, вой мотора на подъемах и зеленая немецкая фуражка корчмаря с завязанными наверху отворотами. В одном месте машину занесло, она сильно наклонилась, рванула вперед, потом словно бы натолкнулась на какое-то препятствие и остановилась. Мотор был выключен, но еще долго что-то в нем клокотало и булькало, трещало, шипело и скулило. Таратайка вправляла свои старые кости и, вправив, утихла.
Мы вышли из машины.
Продолжавший хлестать дождь стегнул нас своими холодными плетьми, как только мы вышли из машины; корчмарь отвязал отвороты своей зеленой фуражки и опустил их на уши. „Идите за мной, — сказал он, — и держите ружья наготове!“
Он повел нас вдоль высокой насыпи. Мы видели только часть реки Струмы, голые тополя на ее берегах, островки камыша, низкие вербы. Насыпь служила нам прикрытием. В одном месте, среди верб и бурьяна, наш вожатый присел и стал руками делать нам знаки, чтобы мы двигались осторожнее и приготовились к стрельбе. Мы подошли к нему как могли осторожно, хотя на каждом шагу скользили по мокрой земле, и заглянули за насыпь. Перед нами простирались тихие и широкие разливы, о которых говорил корчмарь. Сотни уток плавали, ныряли или дремали на воде. Мы выстрелили, среди плеска крыльев попытались следующими выстрелами догнать взлетающих птиц, переломили ружья, каждый поспешно заряжал свое, а утки тем временем сделали круг, пролетели над нами, изо всех сил призывая тех, кто остался внизу, на воде, а увидев, что оставшиеся на воде не хотят лететь с ними, набрали высоту и исчезли в теснине… Ветер постепенно подогнал убитых уток к суше, мы подняли их, каждый приторочил к поясу по несколько штук, и мы стали обсуждать, где нам засесть так, чтоб держать разливы под обстрелом. Корчмарь сказал, что глупо все время торчать под дождем, лучше воспользоваться укрытием и время от времени наведываться к разливам, а если уж утки снова прилетят, тогда выйти и стрелять. Говоря об укрытии, он имел в виду старый дом недалеко от того места, где остановилась таратайка. Дом принадлежал ему, он купил его за бесценок с тем, чтобы привести его в порядок, когда дойдут руки, и заиметь что-то вроде дачи, что же до местности, это сейчас она наводит тоску, весной же здесь очень красиво. Мы только теперь как следует разглядели недалеко от машины приземистый серый дом, прилепившийся к крутому склону, в нескольких шагах от разливов. У стен его виднелись облетевшие сливовые деревья, от которых все вокруг казалось еще более безотрадным. Деревянная лестница, серая от времени, вела на второй этаж. В глубине виднелась дверь и рядом окно, забранное железными прутьями. Все было разбито, полтрубы то ли унесено ветром, то ли смыто дождем. Корчмарь объяснил, что сейчас дом необитаем, но когда он приведет его в порядок, здесь можно будет жить и тогда он будет приглашать друзей-охотников с ночевкой, и рыбаков тоже будет приглашать, потому что Струма хоть и стала грязновата, но рыбы в ней полно, и в погожую пору рыболовов на берегу, как собак нерезаных.