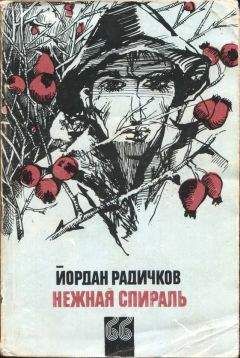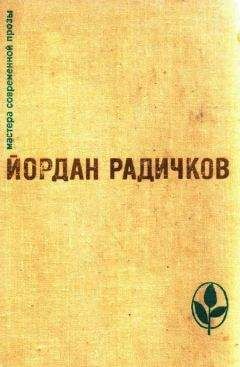Мы смотрели, как они идут под дождем. Они шли, петляя между каменными оградами и развалинами, рядом с оградами и развалинами торчали облетевшие черные деревья, которые природа поместила туда словно для того, чтоб промозглое запустение вокруг казалось еще более безотрадным. Парень и девчонка то исчезали за каким-нибудь разрушенным домом, то снова появлялись, пока дождь и наступающие сумерки не поглотили их совершенно; еще какое-то время мелькала лишь желтая курточка из болоньи.
Дождь усиливался, темнело. Из ущелья веяло чем-то враждебным. Серые контуры заброшенных домов стали расплываться. Понемногу мы сбрасывали с себя оцепенение, задвигались и пласты табачного дыма. Мы взглянули друг на друга, и могу сказать, что лица у всех у нас были виноватые. Наверное, и у меня тоже, не знаю. Особенно неловко мне было перед сыном, я чувствовал себя так, словно это на него недавно замахнулись. Сняв очки, он медленно протирал их, пытаясь подсушить мокрые стекла. Панко курил, сплевывая с веранды в дождь, его голубые глаза стали серыми. Корчмарь невидящим взглядом смотрел на ущелье, потом покачал головой и сказал: „Похоже, я себя ударил!..“ Позже мы расспросили его, откуда могли появиться среди этого запустения парень и девчонка, как добираются сюда такие посетители, откуда они и т. д. и т. п. Корчмарь сказал, что приезжают сюда больше из Перника, главным образом с помощью автостопа, на грузовиках, и поскольку дома стоят пустые и заброшенные, используют их, иногда остаются и ночевать. Панко продолжал курить, плевать и комментировать происшедшее примерно такими словами: „И на черта нам было укрытие, когда мы все равно уже промокли до костей! Только спугнули парочку, они вон на край света прибежали, чтоб помиловаться на свободе, а мы нет чтобы пройти мимо них на цыпочках, набросились на них, словно варвары!“
Действительно, получилось все страшно нелепо, но что мы могли теперь сделать?
Что сделать? Да хотя бы подвезти их на машине, а то куда им деваться в такой дождь.
На том и порешили. Корчмарь заторопился, прикрыл выломанную дверь, кое-как привязал ее ржавой проволокой, мы сели в таратайку, довольно долго она строптиво рычала, сопротивляясь хозяину, но наконец смирилась и покатила по каменистой, усеянной лужами дороге в том направлении, в котором исчезли парень и девчонка со своим убогим „спиннингом“. Но мы их так и не догнали, они исчезли, словно растаяли или провалились сквозь землю.
Постепенно и в воображении моем они стали таять и исчезать; дольше всего прочего мерцала там желтая курточка маленькой смуглой девчонки, узкое пепельно-серое лицо корчмаря в зеленой немецкой фуражке, мокрые каменные ограды, неясные контуры брошенных домов, овечьи трупы, лужи, сумерки…
… Я зашевелился в своем узком логу, стряхнул с себя снег. Ниже меня на воду сели утки, течение реки подхватило их, медленно относя к берегу. Вблизи этого места росли вербы и ракиты, уток можно было подпустить близко. Тот дождливый осенний день начисто исчез из моего сознания. Севшие на воду дикие утки влекли меня к себе, я спустился логом на самый берег и, пригнувшись, с готовым для стрельбы ружьем, стал пробираться вдоль верб и ракит. Если в логу я был защищен от ветра, то здесь ветер мел снег и бросал мне его прямо в лицо. Я не слышал больше ни гула, доносившегося из ущелья, ни далекого собачьего лая. Надо мной пролетели чирки, роняя в ущелье свое равномерное и красивое „прим…“, „прим…“, „прим…“ Я поискал их взглядом, но не увидел, снег повалил еще гуще и скрывал их от глаз… Я продолжал поджидать уток, но каково же было мое разочарование, когда я убедился в том, что вода передо мной чиста. Сильное течение унесло уток далеко вперед, а там ущелье поворачивало, река широко разливалась и незаметно подкрасться к птицам было нельзя. Я остался в ракитнике, надеясь на то, что на расстоянии выстрела еще появятся другие птицы. Несколько раз я слышал выстрелы моих приятелей и определил по ним, что охотники двигаются против течения, то есть возвращаются обратно. Немного позже я увидел в снегу их силуэты, крикнул „Эгей! Эгей!“, они неохотно ответили.
Я повернулся спиной к ветру и тоже пошел по берегу, назад к селу Прибой, к железному навесу, обклеенному зловещими обоями. Из нескольких снежных шапок на крышах вился дым, он говорил о присутствии людей и казался приветливым. День вдруг посветлел. В одном дворе по снегу расхаживал красный петух, потом показался мальчик, тащивший за собой санки. Когда я поравнялся с навесом, то увидел, что на скамейке сидит человек в зеленой шинели и зеленой фуражке с кокардой. Кокарда эта, вероятно, когда-нибудь что-нибудь изображала, но солнце, дожди и ветры так ее обработали, что теперь никто не мог бы сказать, что она изображает, да и сам владелец ее едва ли это помнил. Расстегнув свою длинную шинель и удобно расположившись на скамейке, он ждал автобуса. Был он в подпитии, и вид имел самый дружелюбный. Некрологи, наклеенные на стенах, не производили на него ни малейшего впечатления, видимо он к ним давно привык:
— Плохая охота? — спросил он.
— Плохая! — ответил я. — Утром на реке были утки, да сплыли. Погода подходящая, снег все идет, а пролета почти нет!
— Это потому что бешенство объявилось у собак и у лис! — сказал человек в зеленой шинели. — Слышите небось — все ущелье гудит и воет… Это собаки воют. Собаки издали чуют бешенство и воют. А в этом году оно и на домашний скот перекинулось, в соседнем селе ягнята взбесились, ветеринар давеча велел одного зарезать, думали, он просто больной. Зажарили его и съели, и ветеринар ел, а потом оказалось, что и домашнюю скотину бешенство захватило, так теперь все ждут, что будет — взбесятся те, те кто вместе с ветеринаром ягненка ел или нет. А собак всех уничтожают. Они по ночам с бешеными лисами грызутся и от этого бесятся. Есть распоряжение — всех собак уничтожить, вон село — Дебели-Лаг, в нем сто тридцать собак застрелили. Наши еще тянут, а те всех сто тридцать собак перебили, там председатель совета — баба, так хоть и баба, а круто завернула. Когда бешенство объявится, всех надо уничтожать, будь то лиса или собака или домашняя скотина.
— … Или человек! — попытался я его поймать, но он подумал, покачал головой и сказал:
— Человек — нет!
Со стороны моста показались мои приятели, неясные их силуэты все заметнее проступали сквозь косо летящий снег. Ветер наваливался на навес, врывался вовнутрь, шуршал рваными страницами книги мертвых, облизывал их сухим своим языком и выбивался на улицу, свистя в острых ребрах серого железного сооружения. Незнакомые, выцветшие от времени лица смотрели сквозь меня. Мне кажется, они смотрели на ущелье. На миг пришла в голову мысль, что пока ущелье гудит и воет, оно постепенно покрывается собачьими трупами. Хорошо, что снег продолжает идти и что зимний день смотрит на наши человеческие дела только одним глазом…
Вот каким было для меня 20 февраля 1982 года. Вчера.
Сегодня, 21 февраля, снег продолжает идти. Он шел всю ночь, шел и на рассвете. Город просыпается медленно и тихо. В снегопад софийские шумы становятся более человечными. В окно я вижу, как вышли на улицу соседи, чистят снег с тротуаров, прокладывают дорожки во дворах, сметают снег с машин. Прилетели две голодные сойки, нашли в саду у меня под окном сухие яблоки на ветках, и весь день, пока я работал, теребили сухие плоды, иногда нечаянно сталкивали их в снег, бросались за ними вниз, снова возвращались на яблоню, обшаривали ее, клевали сморщенные плоды, перелетали на соседние деревья, перепрыгивали в поисках пищи с ветки на ветку, и так весь день эти пестрые и легкие птицы боролись с голодом. А снег продолжал тихо падать и ветер слегка относил его. Я подумал, что село Прибой совсем утонуло в сугробах, и кошара утонула, и автобусная остановка ушла в снег по колени или по пояс, и не знаю, приходил ли туда по сугробам тот давно умерший человек, чтобы почитать траурные извещения и некрологи и посмотреть, вписывают ли еще родные и близкие его сердцу люди его имя в поминальные сообщения. А может быть, все тропы в ущелье засыпаны снегом и только глухой гул разносится по нему да обрывки собачьего воя, если остались еще кое-где в живых дворовые собаки, эти маленькие бродяги и деревенские бездельники, добродушные и покладистые, которые часами могут лежать возле стога сена или под каким-нибудь навесом и ждать, когда на дороге появится человек. Эти маленькие бездельники только того и ждут, чтоб человек позвал их, и тут же бегут ему навстречу, дружелюбно помахивая хвостами, хотя и не знают еще, будет ли им брошена корка хлеба или в них запустят камнем. А может быть, всех их в том гудящем глухо ущелье уже постигла участь их собратьев из села Дебели-Лаг… Я вижу в окно, как на соседний двор выходит человек в красной куртке из болоньи, с деревянной лопатой в руке. Он идет в глубину двора, где белеют новенькие ворота его гаража. Человек в куртке отпирает ворота, открывает одну створку и в ту же секунду из гаража вылетают два крупных серых волкодава. Они бросаются к человеку в куртке, становятся лапами ему на плечи, показывают длинные красные языки, а он что-то говорит и ласково их отталкивает. Волкодавы принимаются играть в снегу, а их хозяин чистит снег перед гаражом. Потом из дома выходит женщина в длинном халате, поверх халата накинута белая вязаная кофта. На ногах у женщины домашние туфельки, как только она ступает в снег, туфельки исчезают. Волкодавы подходят к ней приласкаться, трутся о полы ее халата, женщина наклоняется и похлопывает то одну, то другую собаку по низкому покатому лбу. Я смотрю на нее и пытаюсь вспомнить, чьи же туфли проваливались подобным образом? A-а, вспоминаю я, так проваливались туфли маленькой смуглой девчонки из ущелья, того закопченного городского воробья, только они не в снегу тонули, а в холодной грязи и в лужах… Волкодавы перестают ласкаться к хозяйке, ложатся прямо в снег, зорко, но спокойно смотрят на улицу. Картина похожа на праздничную открытку — такими неестественными кажутся мне эта белизна и этот покой. Эх, господа волкодавы, — думаю я, — знали бы вы, как воют сейчас ваши собратья в глухом каменном ущелье и сколько собачьих смертей засыплет в том каменном ущелье тихий снег!.. Сознание мое еще долго было занято ущельем, но под конец и оно устало. Я больше не наблюдал за волкодавами и смотрел только на падающий снег, надеясь таким образом передохнуть. Но вот мое воображение, хоть и усталое, постепенно начало извлекать из падающего снега силуэт бегущей каменной собаки. Странным казалось, что эта каменная собака не приближается и не удаляется, а остается на одинаковом от меня расстоянии. Контуры ее были не совсем ясны, но, несмотря на это, мне чудилось, что где-то, когда-то я ее видел. Я долго рассматривал ее, не отдавая себе отчета, что именно проносится в моем возбужденном сознании — мои ли собственные воспоминания, или какое-то каменное изображение, когда-то увиденное, или воспоминания моих предков, или просто само время несется сквозь падающий снег, приняв нежданно образ каменной собаки? И пока оно неслось, из глубины ущелья появился незнакомый человек. Он пристально смотрел на меня. За его спиной, тоже из глубины ущелья, возникли тени собак. Они следовали за ним по пятам. Когда он остановился, пристально глядя на меня, собачьи тени тоже остановились и пристально на меня уставились. Вдруг я догадался, что незнакомец — это тот самый давно умерший человек, который приходил прошлой ночью в Прибой читать некрологи под навесом. Он продолжал пристально смотреть на меня, на его постной физиономии застыла гримаса разочарования. Я начал с ужасом понимать, что этот давно умерший человек, сопровождаемый по пятам тенями собак, смотрит на меня не так, так смотрят на живого человека, а смотрит на меня и читает меня, как смотрят и читают траурные вести, слова прощания или поминальные сообщения. Неужто и я уже стал выцветшим и неудобочитаемым некрологом? — с тоской спросил я себя.