Вероятно, официант снял перчатки, когда увидел даму, а дама, заметив официанта, тоже сняла перчатки и сунула их в руку дяде, который так и остался стоять на набережной, не зная, как обычно возвращаются домой путешественники. Отдыхающие корчились от смеха, а дядя от стыда, после чего он решил, что ноги его за границей больше не будет.
Позже он еще раз попытался вернуть даму с маленькими руками, размахивал перчатками перед ее лицом, но, вероятно, дама только засмеялась, как умеют смеяться лишь женщины, плюнула на перчатки и притопнула ногой от нетерпения. Потом положила деньги на стол и ушла по делам.
А дядя остался с песком в ботинках, за шиворотом и во рту и, попытавшись что-то сказать, закашлялся и никак не мог перестать. А мы вскочили с чемоданов, которые были так набиты, что при всем желании не закрывались. Мы распахнули окна и впустили свежий воздух, словно этим могли принести дяде облегчение. Потом подняли его за плечи и мягко похлопывали по спине, пока он не наклонился вперед и не засипел сквозь зубы, давая нам понять, что он возмущен и своим путешествием, и придуманной нами историей.
Уже не один месяц мы знаем, что кто-то поселился в живой изгороди за домом наших родителей. Не будь мы давно взрослыми, мы бы не сомкнули глаз и по ночам, сжимая в кулаке карманные фонарики, крадучись ходили бы вокруг дома, ставили ловушки и натягивали невидимые силки, однако приманка в ловушках осталась бы нетронутой, силки — целыми, а разрыхленные дорожки — без следов. Может, мы бы дежурили у черного хода: одну ночь — мой брат, другую — сестра, третью — я. Но в конце концов мой брат-почтальон отказался бы от этой затеи, потому что тот, кто не спит по ночам, по утрам натыкается на заборы и собак. Так что караулить пришлось бы мне и сестре, но сестра по утрам стоит за прилавком, продает испеченный булочником хлеб, — с улыбкой, от которой, правда, богатеем не мы, а булочник.
Так и выходит, что одна я ночь за ночью стою у черного хода с фонариком в руке, не спуская глаз с изгороди. Каждый час я проверяю силки и ловушки, и, хотя храброй меня не назовешь, свой пост я покидаю лишь с приходом мальчишки-газетчика. Прежде чем войти в дом, я поправляю в палисаднике щит, на котором четкими буквами написано, что мы желаем продать дом наших родителей.
По пути к кровати я слышу, как кипит вода для кофе, и в приоткрытую дверь вижу, как брат чистит щеткой темную куртку. Сестра правой рукой гладит фартук, а в левой держит яблоко, то и дело от него откусывая. Деревья в нашем саду дают хороший урожай. Я знаю: поспать мне не удастся, пока около полудня брат не придет домой. Я буду беспрестанно сбегать вниз по лестнице, распахивать двери и приветствовать покупателей — радостных загорелых отпускников в больших солнечных очках, которые по дороге от одного озера к другому заезжают к нам посмотреть дом, — крупных мужчин за рулем и бдительных дам с властными голосами рядом с ними.
Я предлагаю им кофе и печенье из большой жестяной коробки, которую сестра наполняет каждый вечер, когда возвращается домой от булочника. Отпускникам нравится пить наш кофе по пути от одного озера к другому, и печеньем они тоже угощаются с удовольствием. Когда же, наевшись досыта, они, по обыкновению отдыхающих, начинают слизывать с пальцев сахарную пудру, я приступаю к экскурсии. С гордостью, потому что дом наших родителей хоть и маленький, но вместительный. Можно разойтись, не теряя друг друга из виду. Каждый час солнце светит в другое окно. Зимой у нас светло дольше, чем у других. До озера полчаса в любом направлении — куда бы вы ни ехали. Но это уже не мой голос, а моего брата-почтальона, научившего меня обращению с покупателями, ведь мы любой ценой хотим как можно скорее избавиться от дома наших родителей.
Тогда брат отправится в те края, откуда приходят письма, которые он по утрам кидает в почтовые ящики, сестра насовсем уйдет к булочнику, а я пойду своей дорогой — у каждого свой путь. Чтобы мы это осознали, брат выпроваживает нас за дверь, сажает в родительскую машину и отправляет прокатиться по окрестностям: сестра за рулем, я — рядом, обе в больших солнечных очках. Мы всматриваемся в пейзаж за маленькими окнами, и я мечтаю, чтобы сестра никогда больше не разговаривала, того же хочет и она.
Но когда мы проезжали мимо родительского дома, сестра, вытянув руку, указала на щит в палисаднике. Мы остановились, вышли из машины и под ручку направились к двери, которую брат распахнул изнутри, будто весь день только нас и ждал. Вода в кофейнике уже закипела, открытая коробка с печеньем стояла на столе. Поскольку я слишком глубоко запустила туда руку, брат захлопнул крышку и воскликнул: Нет уж, сейчас будем осматривать дом! Мы поднялись за ним по лестнице и впервые увидели родительский дом собственными глазами.
Он маленький, но вместительный, наверху две комнаты: одна для детей, другая для родителей. Спится здесь крепко и без сновидений. А вот наш сад: деревья дают хороший урожай, только в прошлом году мы их прививали. Если заботиться о них, немного, совсем чуть-чуть, то можно есть за своим столом урожай из собственного сада. Только живую изгородь надо время от времени подстригать, иначе она заслоняет обзор, а ведь в ясную погоду открывается вид почти до самого озера, полчаса в любом направлении. Полы крепкие, как и крыша, ни одна капля не просочится ни сверху, ни снизу, в этих краях почти не бывает дождей. Как же тогда растут деревья? Это остается тайной, а тайны людям нравятся. Вниз по лестнице — кухня, прямо у окна — стол, каждый час солнце освещает довольного едока с вилкой в руке и молитвой на устах. Только живую изгородь надо время от времени подстригать, иначе утром будет темно и никто не захочет вставать.
Но ведь солнце еще ярко светит в окно, кричу я, да и вода в кофейнике кипит, только вот брат не удостаивает меня ни единым взглядом. Уже несколько месяцев он считает, что я недостаточно убедительно произношу свою речь, когда отдыхающие останавливаются посмотреть дом наших родителей. Но я и дальше буду стоять на страже у кухонной двери, сжимая в кулаке фонарик и наблюдая за сестрой, стоящей за хлебным прилавком, и за братом, кидающим письма в почтовые ящики. И хотя храброй меня не назовешь, я не сомкну глаз, пока приманка в ловушках не будет съедена и я не обнаружу следов на разрыхленных дорожках.
В кухне будет темно, когда отпускники войдут и удивленно склонятся над пустой коробкой для печенья. Угощайтесь, крикну я, теперь уже властным голосом, но не забудьте, что изгородь надо срочно подстричь, а то ведь собственной руки не видно. Потом я провожу их с фонариком до ворот и по дороге сниму с них солнечные очки, чтобы они не натыкались на заборы. Прежде чем вернуться через палисадник в дом, я последний раз проверю силки и ловушки и без сожалений вырву из земли щит.
Когда дюжие мужики с гоготом и бранью, обливаясь потом, выволокли из дома последние вещи — две кровати и шкаф, посреди комнаты, словно изваяние, остался сидеть на сундуке мой отец. Он закрыл лицо руками и уткнулся в колени, будто ждал, что мужики вернутся, подхватят его под руки и отнесут в машину к прочей мебели. Но те не собирались избавлять отца от его участи, а меня — от него; как только я подписала документы, они поспешно ушли.
За грязными окнами садилось солнце — зрелище, которое обычно каждый вечер приковывало внимание отца, прежде чем он вставал, одевался и наконец-то отправлялся по делам. Но сейчас он все так же сидел на сундуке и не поднял головы, даже когда я поставила у его ног недопитую пивную бутылку, которую мужики забыли в углу прихожей. На нем был тот же поношенный костюм, что и прошлой ночью, и широкий, некогда желтый галстук, теперь безжизненно свисавший с его шеи, словно хвост околевшей собаки. Воротник его рубашки измялся, растрепанные волосы на голове напоминали карнавальную корону. Меня душил смех, и, чтобы справиться с ним, я стала медленными глотками пить пиво, так как не хотела пугать горевавшего отца.
Частенько я сиживала так, допивая остатки из бутылок, пока отец проигрывал игру за игрой мужчинам в других галстуках. Он часто брал меня в свои ночные походы — якобы затем, чтобы обучить правилам игры, но на самом деле он до последнего верил, что я принесу ему удачу. Он не сознавал, что мы пришли в этот мир приносить себе и другим несчастья: он делал это своей игрой, а я была свидетелем, потому-то однажды ночью мать выложила карты на стол, плеснула на них какой-то едкой жидкостью и подожгла, так что мы с отцом обливались потом, кашляли и ничегошеньки не видели. Но к тому времени матери уже и след простыл.
С той ночи я больше не сопровождала отца в его походах. В поте лица чистила щеткой его костюмы, стирала и гладила его галстуки и рубашки. Только вот крахмалить ему воротнички так, как делала мать, у меня не получалось, поскольку она не посвятила меня в свои тайны. Вяло, будто сломанные крылья, свисали уголки отцовских воротничков, это злило его: он любил жесткие формы. Возвращаясь домой перед рассветом, он нависал над моей кроватью, хватал меня за плечи и рывком поднимал с подушки. Опять как жеваный! — громко кричал он, будто произнося обвинительную речь. Тогда я вставала, шла на кухню, ставила воду для кофе и не напоминала ему ни о чем из того, что он знал сам: что и в крахмальных воротничках он не выиграл ни одной игры и что чашки, из которых мы пьем, — наши последние, ведь я давно начала закладывать все, что можно было вынести. По вечерам я клала деньги на кухонный стол, и он, прежде чем смыться, поспешно запихивал их во внутренний карман костюма.
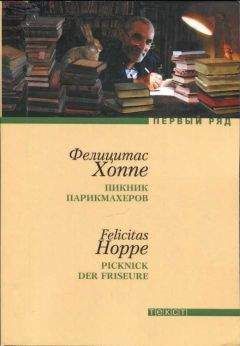
![Лесли Чартерис - Пикник на Тенерифе [Пикник на Тенерифе. Король нищих. Святой в Голливуде. Бешеные деньги. Шантаж. Земля обетованная. Принцип Монте-Карло]](https://cdn.my-library.info/books/142953/142953.jpg)


