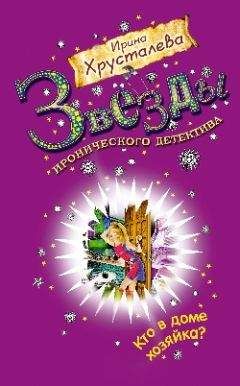В институте Марину Борисовну вообще любили, хотя считали чудачкой и отчасти над ней посмеивались. Целые анекдоты ходили о ее рассеянности, доброте и нелепости. Будучи нелепой, рассеянной и доброй, Марина Борисовна за много лет так и не успела защитить диссертацию. Рассказывали, впрочем, что диссертация у нее была уже готова, но она ее потеряла. Как потеряла? Да так, самым буквальным образом, где-то выронила. Что ж, вполне возможно. Марина Борисовна всегда что-то теряла. Это была невысокая изящная женщина с крохотными ногами и руками, с пучком вечно растрепанных полуседых волос, из которых поминутно падали шпильки. Ходила она как бы танцуя, на полупальцах, по-кенгуровому поджав к груди маленькие руки. Вечно она куда-то спешила, о ком-то заботилась. Чужие дела горели в ней неугасимым пламенем. Студентов она любила самозабвенно, хотя они ужасно ей врали. Врать ей было легко и стыдно — стыдно потому, что легко. Она сразу верила и бежала на помощь. Скажем, студент оправдывал свою неподготовленность болезнью матери. Что тут начиналось! Чем больна? Кто лечит? В больнице? В какой больнице? Чего доброго, она способна была отнести туда передачу! Студент потел холодным потом и сам не рад был, что с нею связался. Зато подлинные неудачники, хвостисты и отчисленные, чудаки и сумасшедшие летели на нее как мухи на мед. Денег и времени у нее никогда не было — все уходило в людей.
Первую лекцию Марины Борисовны Гарусов хорошо запомнил. Это была первая в институте лекция, которую он не записал. Третий курс, студенты — народ уже привычный, тертый — галдели в аудитории, кто сидя, кто стоя, кто жуя, кто, как Гарусов, раскрыв тетрадь и приготовившись записывать. Распахнулась дверь, и вошла, придерживая ее рукой, маленькая женщина с пузатым портфелем, из которого что-то висело, может быть, даже чулок. По залу пробежали смешки, шиканья, студенты начали не то вставать, не то рассаживаться, делая вид, что встают. Маленькая женщина, не обращая внимания на шум, кивнула головой, положила на стол портфель, влезла на помост перед доской, стала лицом к аудитории и выдвинула перед собой одну ногу. Выгнув подъем по-балетному, она установила ногу твердо на носок и не спеша придвинула к ней другую, парадоксально развернутую пяткой почти вперед. Студенты притихли. Установив ноги в этой противоестественной позиции, Марина Борисовна вскинула голову, и несколько шпилек, одна за другой, стукнулись о помост.
Тишина была полная. Как только раздался ее голос, все насторожились. Еще несколько фраз — и все были захвачены. Это была не лекция, а какой-то поток общения, исходивший от лектора и обнимавший весь зал. Слушая Марину Борисовну, каждый чувствовал себя умнее, чем был в действительности, и начинал за это себя больше любить.
Лекции Марины Борисовны всегда собирали полный зал. Она не излагала свой предмет — она рассказывала о нем, как о хорошем знакомом, нет, лучше — о друге, запросто, очень интимно, с какими-то меткими, смешными словечками. Сразу становилось ясно, что к чему и для чего, и почему существует именно эта наука, и в каких она отношениях с другими, и как можно ошибиться, и что делать, чтобы не ошибаться. Рисовать на доске она не умела, почерк у нее был черт-те какой. С головы до ног осыпанная мелом, облизывая пальцы, становясь на цыпочки, Марина Борисовна объясняла, и все становилось ясно, но по-особому. Не просто и ясно, а сложно и ясно. Особенно ждуще замирали студенты, когда она начинала говорить «обо всем». Именно так: ни о чем в отдельности, а обо всем сразу. Гарусов вовсе забросил конспект и только слушал горячими ушами.
Когда после одной из лекций Марина Борисовна объявила запись в научный кружок, многие записались, и Гарусов тоже. Многие потом отпали, а Гарусов не отпал.
Странный это был кружок. Название его — «Системы автоматического управления» — осталось еще от прежнего руководителя, профессора Темина, ныне пропавшего в омуте успеха. Чем, собственно, занимался кружок — точно известно не было. Марина Борисовна пыталась заинтересовать кружковцев теорией саморегулирующихся систем, но не тут-то было: они коварно бросились в пучину изобретательства. Марина Борисовна металась вокруг них, как курица, высидевшая утят. В технике она смыслила куда меньше своих питомцев. Теоретические знания у нее были, и очень обширные, но живых машин, машин в металле она откровенно боялась. Стоило увидеть, как она трогала своим бледным пальцем какую-нибудь клемму, чтобы понять, что это — не ее сфера. Тем не менее, кружок существовал, руководя сам собой, при сочувствии и попустительстве Марины Борисовны.
Студенты собирались в лаборатории по вечерам, раскладывали чертежи, паяльники и канифоль и начинали работать. Рано или поздно (чаще поздно, чем рано) раскрывалась дверь и появлялась Марина Борисовна, спешащая, в расстегнутом пальто, на голове крохотная смешная шляпа — не шляпа, а какой-то симптом головного убора, в одной руке — неизменный портфель, в другой — авоська. Из авоськи извлекались свертки с угощением: бутерброды, пирожки, конфеты, яблоки. Все это при радостных кликах развертывалось и пожиралось. Отряхивая крошки, студенты брались за чертежи и паяльники. Гарусов был чаще с паяльником. У него были ловкие маленькие руки («серебряные» — называла их Марина Борисовна), и он умел как никто собрать и отладить любую схему. Своих идей у него не было. Главными генераторами идей в кружке были два студента, один — отличник, другой — хвостист, но очень талантливый. Отличник и хвостист непрерывно ссорились, но все-таки создали вместе одну необычайно уродливую конструкцию, истратив на нее немало собственных денег, для чего были проданы на рынке пиджак отличника и брюки хвостиста. Конструкция демонстрировалась на выставке студенческих работ и даже была удостоена премии, но работать не работала, видимо, раздираемая внутренними противоречиями. Те же противоречия между двумя главарями — отличником и хвостистом — привели к тому, что кружок распался. Гарусов был в отчаянии. Он заметался по институту, пытаясь завербовать новых членов, не брезгуя даже девушками, но тут надвинулась сессия, и, как водится, все было забыто, кроме билетов, шпаргалок, отметок и стипендий.
Один Гарусов ничего не забыл. Прошла сессия, начались каникулы. Вместо того чтобы бегать на лыжах или просто гонять лодыря, он явился в лабораторию и выразил желание работать. Никто его не понял, кроме Марины Борисовны. Она сказала: «Отлично, если нас все бросили, будем работать вдвоем». Теперь бутерброды, пирожки и конфеты, в прежнем масштабе, доставались одному Гарусову. Он добросовестно ел, проявляя еще с голодных времен сохранившееся религиозное уважение к еде. В промежутках он излагал Марине Борисовне идею новой конструкции. Идея была не бог весть что: он хотел примирить противоречивые принципы отличника и хвостиста, избежав ошибок того и другого. Марина Борисовна внимательно его слушала и время от времени вставляла теоретические замечания, в свете которых он переставал что бы то ни было понимать. Тем не менее, они отлично ладили.
Марина Борисовна вообще любила студентов, всех, способных и тупиц, прилежных и лежебок, а Гарусова еще отдельно полюбила за то, что он был такой маленький и четкий, усердно ел и был, по-видимому, горячо увлечен работой. Особыми талантами он не блистал, но была в нем некая скромная самостоятельность. Выслушает почтительно, не возражая, а сделает по-своему и, глядишь, лучше, чем предлагала Марина Борисовна. Свою нехитрую и малооригинальную конструкцию он оттачивал почти два года, после чего выступил с докладом на конференции, где вел себя скромно, но с достоинством, и хорошо отвечал на вопросы. Марина Борисовна так и сияла. Конструкция, работавшая вполне исправно, нашла свое место на полках постоянной выставки.
* * *
Гарусов окончил институт одним из первых по успеваемости, но, будучи малозаметным, предложения в аспирантуру не получил. На распределении его направили в Воронеж, инженером НИИ. Гарусов против назначения не возражал. Зоя тоже не возражала, даже была рада: очень уж стал в Ленинграде за последнее время пронзительный климат, вот и Ниночка желтая стала и часто болеет.
Собрались и поехали, в мягком вагоне. Ниночка липла к окну, ахала на каждую водокачку. Проводница разносила чай. Зоя покачивалась на мягком диване и думала: «Вот и слава богу, едем к себе домой, трое нас, настоящая семья». Гарусов был невесел. Он, ленинградец, покидал Ленинград. Он тоже смотрел в окно. Взгляд его, словно при чтении, бежал прилежно за каждым предметом до самого края окна и, стукнувшись о раму, скачком возвращался назад.
На новом месте Гарусовы устроились неплохо. Вначале, с полгода, жили в общежитии для семейных, в узкой и непомерно высокой комнате с каменным полом (до революции тут были казармы). На весь этаж была одна кухня с четырьмя газовыми плитами, шестнадцать конфорок, и то не хватало. С утра до ночи здесь гомонили, стряпали, стирали, порою ссорились молодые хозяйки (старых почти что не было), а маленькие дети цеплялись за их подолы и фартуки, требуя внимания. Время от времени кто-нибудь из малышей падал, гулко стукнувшись головой о каменный пол. Начинался рев и хлопотня, ребенку оказывали первую помощь, и вся кухня объединялась во встревоженном сострадании. Тем временем на плите что-то пригорало, и хозяйки с той же озабоченностью бросались спасать пригоревшее. Впрочем, пригорало часто и без происшествий. Были такие специалистки, у которых всегда пригорало. Особенно этим отличалась аспирантка Галя, высокая бледнушка в очках, которая и на кухню-то выходила не иначе как с книгой. Муж ее Сережа, тоже аспирант и тоже в очках, помогал жене во всем, в очередь с нею готовил, дежурил по кухне, стирал пеленки и гулял с шестимесячным сыном. Сына звали Икаром, он был толст, неповоротлив и мудр и все говорил сам с собою на голубином наречии.