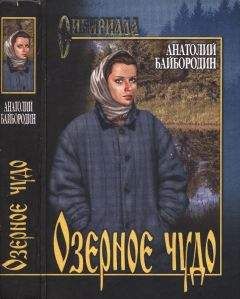Ознакомительная версия.
И вот уже ночная деревенька подле леса; стылый месяц, синеватый снег и длинные, чёрные тени от заплотов и ветхих изб; свет погашен, окна темны, — будто избам выжгли глаза. А на отшибе у самого леса красуется избушка на толстых курьих лапах, и там возле горящего камина сидит в затейливом кресле всё тот же чернявый; сутулится, глухо укутавшись плащом, и читает книгу, разложив её на коленях, — книга в чёрном переплете, а в книге сплошные закорючки, звёздочки. Топится камин, кровавые отблески огня плещутся по замшелым стенам, паутинным углам; на жарких углях бурчит варево в котле, и баба, похожая на ведьму, то помешивает поварёшкой в котле, то прядёт шерсть, поплёвывая на пальцы и таинственно бормоча себе под нос. А по деревне, по синеватому снегу, мимо чернеющих изб ковыляет медведь, тяжело опираясь на деревянную клюку и подволакивая липовый протез. На нём всё та же русская, расшитая по вороту рубаха. Бредёт медведь-инвалид по спящей, будто вымершей деревне и хриплым, отчаянным, грозным голосом причитает:
Скрип-скрип-скрип липова нога,
Тук-тук-тук деревинна клюка.
А земля-то спит, а вода-то спит,
Одна баба не спит,
На моей шкуре сидит,
Мою шерсть прядет,
Моё мясо ест…
И правит медведь прямо к избушке на курьих лапах…
В сказке медведь задрал мужика с бабой, и, может, так же случилось бы в моем сне, но я неожиданно проснулся на краю ночи и увидел взлохмаченный силуэт возле открытого окна, печально и одиноко чернеющий на фоне жёлто-белой, отечной луны. Мне трудно было разобрать в мутном, реющем свете лицо Карнака, хотя и приблазнилось, что тот плачет, — такая знобящая мою душу печаль была во всей его обмягшей, присутуленной спине, в опавшей на грудь голове. Потом, даже оторопев от такого дива, я увидел, как он трижды бережно перекрестился, после чего мне отчётливо услышалось:
— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного… — повторив трижды Боговы слова, ещё что-то шептал взахлеб, но уже нельзя было понять слитый в шелест, быстрый говор.
* * *
Первым из палаты увезли нашего бедного шашлычника, и, когда до нас долетела горькая весть, мы искренно переживали, напрочь забыв о былой неприязни, и даже исподтишка, молча помянули его: Царствие ему Небесное, прости, Господи, его прегрешения вольныя и невольныя…. А в тот день, когда меня выписывали, Карнака, мокрого от пота, впадающего в беспамятство, перевели в отдельную палату, — помирать, как мы прикинули про себя. На прощание он без всяких пояснений сунул мне тоненькую, размером в мужичью ладонь, книжечку стихов, и каково же было наше изумление, когда мы прочли на обложке его фамилию, — Ефим Карнаков, когда увидели на карточке его скуластое, хитроглазое, не то брацковатое[131], не то тунгусоватое лицо. Книжку листали, читали по кругу даже те, кто шарахается от поэтических сборников, как от чумы; читали вслух и про себя; и веяло от стихов смолистым сосновым духом, гудели в поднебесье кедровые вершины, пели на синеватом рассвете Божьи птахи, лаяли на хребтах могучие гураны[132], и стелился по-над чушачьим багулом, над мхами и кошкарой сизоватый дымок костра, и тоненько сипела, кружила хвоинки закипающая вода в котелке.
В городе шумном осень
Жар-птицей по скверам скачет;
Никто обо мне не спросит,
Не вспомнит и не заплачет.
А здесь, над прозрачной Русью,
В снега, где живу теперь я,
Весь день голубые гуси
На счастье роняют перья.
Я перечитал это стихотворение раза два, как бы чуя в нём вещее и печальное провидение самого поэта.
Перед тем, как выйти на волю, пытался пробиться в палату Карнака, но неудачно. Лишь видел мельком нашу сестру Татьяну, сидящую возле него, под самой системой-капельницей, что-то тихо и ласково говорящую ему, низко склонив голову.
Когда меня освободили из больницы, я, грешным делом, недолго переживал за Карнака, недосуг было, — я кочевал с семьей в деревню на долгое жительство. Слепыми, степными вечерами, под волчий вой пурги я нет-нет да и листал книгу горемычного поэта, вычитывая строки, павшие на душу.
Ослепший дом — на брёвнах накипь солнца.
За полем обомшелые кресты.
Как дикий конь, в лугах туман пасётся,
Седая грива льётся на цветы.
Чайка над милым селом
Солнечным ангелом вьётся,
Всё, что мы видим кругом,
Родиной нашей зовётся.
И, может быть, этот баешный парень, стихотворец замутился бы в моей памяти, но такое случилось диво дивное, когда после нескольких зим и лет, оказавшись в Иркутске и залетев на большой поэтический вечер в городской театр, я вдруг увидел его целым и невредимым, — видимо, ещё не исполнилось его назначение, заради которого далась ему жизнь и был дарован певучий голос, чуть приглушенный, хвойно-мягкий, вкрадчивый и потайной, будто свет в закатном сосновом лесу.
Народу в театре набилось битком, — любили тогда поэтические вечера, — и Карнак в верблюжьем свитере чуть не до колен, с отвисшим воротом, но всё такой же ладный, крепко сбитый, стоял посреди сцены, — будто у своего родного села на солнопёчном угоре, — и читал, рукой отмахивая строки в сумеречный зал.
Хорошо у нас в зимовье!
Печь в углу красна от жара.
И к столешне изголовьем
Возле стен приткнулись нары…
Сохнут мокрые обутки,
Рукавицы, опояски…
Сыпь, напарник, прибаутки,
Я — охотничьи побаски!
Пока он, простецки почёсывая затылок, ероша волосы, прикидывал, чтобы ещё вычитать, к самой сцене пробилась девушка с цветами, и она ещё не обернулась лицом к народу, а уже почуял, — Татьяна, сестрица наша.
Яро вода клубится
В покатях грозных рек.
Талая голубица
Сок пролила на снег.
Падает с кердра озимь.
Калтусы — голубы.
Звякают звёзды оземь
И о сохачьи лбы.
Он читал с высоких подмостков, и люди гулко хлопали, а мне поминалась наша больничная палата и окно в мягкую, влажную ночь, хмельно пахнущую черёмуховым цветом и хвоёй; и ночь таяла на глазах, и тихое, желтоватое вызревало утро.
1989,1991,2000
ОЧАРОВАНАЯ ЯВЬ, ИЛИ ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ ХАРИУСА НА БАЙКАЛЕ
Брату моему Александру Байбородину
Сколь уж зим пустомельных блажил я о подледном лове хариуса на Байкале, но отупляющая, опустошающая душу, житейская колготня, пропади она пропадом, мертвой хваткой держала в своих цепких когтях. Буреломом городились поперек рыбалки бесчисленные дела-делишки, коим не виделось ни конца ни края. Но однажды Ефим Карнаков все же сомустил меня на зимнюю байкальскую рыбалку и почти силком вырвал из клятой житейской суеты.
И вот уже позади усталая земля, впереди мартовский Байкал.
То ли сон, то ли очарованная явь: неземное безмолвие; ледяная степь в снежном покрове, широко и вольно утекающая в блаженно-синее, вешнее небо; искристая бледность суметов на солнопеке, от которых ломит глаза и вышибает слезу; странные и бесплотные видения среди миража; приманчиво зеленеющий на облысках нагой лед, выскобленный ветром, и торосы, бескрайними, вздыбленными грядами раскроившие озеро вдоль и поперек.
Баюкая, навевая ямщичью дрему и сладостную грусть, от темна до темна маячила перед нашими глазами ледяная степь.
И так три дня, пока мы через Малое море, заночевав на острове Ольхон, потом — на мысу Покойников, где ловили бормаш — приваду и прикормку для хариуса, скреблись к Ушканчикам. Ушканчики… Так умиленно величают на Байкале северные островки, где, баяли рыбаки, водилась уйма зайцев, ушканчи-ков, по-здешнему.
То наши две «легковушки», вспоров шинами закрепший наст, вязли в пушистых суметах, то нам приходилось — словно озерный хозяйнушко кружил, — загибать многоверстные крюки, объезжая щели, дышащие темно-зеленой, потайной водой; щели встречались узенькие, какие мы проскакивали махом, и пошире, которые нужно было огибать. Через одну из них, так и не доехав до ее конца или начала, нам пришлось прыгать.
Хозяева машин, высадив нас, рыбаков-попутчиков, и, может быть, про себя крестным знамением заслонив свою жизнь, изготовились к прыжку; и если одна машина, где посиживал за рулем удалой парень, легко перемахнула щель, то другая, где правил пожилой, степенный мужичок, грохнулась задним мостом на край полыньи, зависла над пучиной и лишь потом — мы стояли бледные — с натужным ноем, испуганным стоном выползла на лед. Мужичок — Гаврилычем звать — выпал из машины огрузлым кулем, белый, как снег, и долго стоял, томительно приходил в себя, пугливо косясь на щель, которая, блазнилось, ширилась на глазах, манила к себе, и в ней с хрустом и тоненьким, льдистым перезвоном поплескивалась растревоженная пучина.
Ознакомительная версия.