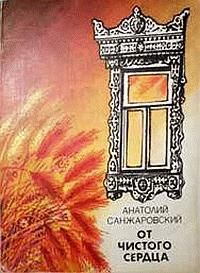Ну скажите Вы ей… Я ж…
— …я ж, — перехватила Зина мальчиковы слова, с лёгкой язвой в голосе и в лице пустила на свой лад, в своё русло, — я ж первый парень на деревне, а в деревне один дом!
Колюшок набычился. Того и жди, боднёт.
— Ну, Зинка! — Колюшок выставил кулаки с поварёшку. — У тебя память короче срезанного ногтя! Да ну только напомни я про кошку — на стенку ж подерёшься!
Зина разом опустила крылья.
Видать, вспомнила про ножки, как у беременной кошки, сморённо запричитала:
— Колюшок… миленький… Ну не надо… Честное слово, я боль не буду, — и тише воды слилась в сени.
Колюшок проводил её долгим взглядом исподлобья.
С весёлым интересом поворотился к председателю.
Золотых поправлял на себе шапку. Налаживался уходить.
— Дядь Петь! А можно вопрос на дорожку?
— Ну.
— Так когда ж меня мамушка пустит?
— А когда вырастешь… — Золотых замялся. — А когда вырастешь, сам понимаешь, ну хоть с дверь, что ли…
Какое-то время Колюшок постоял в нерешительности.
Просиял.
— Это нам раз плюнуть!
— Да нет, в один антисанитарный выпад не уложиться.
— Начну, дядь Петь, с сейчас!
Колюшок прижался спиной к двери.
— Ма, — зовёт меня, — резните ножом отметину.
Я чиркнула.
Золотых искоса весело посмотрел на Колюшка.
Хохотнул:
— Ну-ну-ну… — И застучал костылями к порожку.
А утром чем свет Колюшок снова присох к двери.
— Режьте, — велит мне, — отметину. Да смотрите, долго ль ещё до тракториста расти. Я буду каждое утро меряться.
Носи платье, не складывай,
терпи горе, не сказывай.
В день выезда в поле Зина проснулась первая.
Встала на коленки, сняла с ходиков — висели у неё над головой — гирьку.
Я и посейчас в ум не возьму…
Спала я белорыбицей, вытянула руки по швам.
На починке тракторов так навламываешься за день — до постельки еле доползешь. Руки болят — спасу нет. На ночь по швам только и кладешь. Никак больше не кладешь. А то за ночь и не отойдут…
Спала я, значит, покуда стучали часы. А как стали, как легла в дому полная тишина, я и прокинься. Не с той ли нездешней тиши и пробудись.
Впросонье гляжу, Зина с гирькой под одеялом сидит. Лабунится уже совсем вставать.
Подхожу.
А у самой на душе какая-то смуторная тревога.
— Ты на что это сняла? — вполовину голоса нагоняю ей жару.
— Мам, — потянулась она до хруста в молодых косточках, — ну к чему нам часы? Сами ж говорили, часы на стене, а время на спине… Ну чего зря греметь над ухом? Не по часам же подаёмся в поле. По самим хоть проверяй точное московское время. В нужную пору соскочишь. Ни секундушкой позже!
— А и твоя правда. Пускай тогда стоят, Господь с ними… А ты чё не спишь? Темнотища на дворе, черти ещё на кулачки не бились…
Говорю, а у самой один глаз ворует: дремлется.
— Куда ж его спать? — Зина блином масляным в рот заглядывает. — Шутейное ль дело! Первый выезд!
Я подивилась:
— Как это первый? Ты что, раней в поле не была?
— Быть-то была… Так то ещё до немца.
— А-а. Это другой коленкор.
За нею, заполошной, и я не легла дозорёвывать.
Наладилась убираться.
Вижу, край как ей невтерпёжку, знай спешит одевается-умывается, без стола бегом к своему хэтэзулечке [14] во двор.
Слышу, завела.
Выскочила я на крыльцо в ватнике внапашку да в одних шерстяных ногавках (носках).
— Ты чё, — шумлю, — без завтрика?
Улыбается. За всё проста:
— А безохотно… Спасиб, ма.
— Чего спасибить? Спасибо положь себе за пазуху. А минуту какую пожди — поле не сокол, не улетит! — да съешь что.
— Не-е, ма. Неохота вовсе… Да мне и на пользу. Не поем когда, стройности на кость накину.
— Ну! — накогтилась я. — Враг с тобой, поняй ковыряй свои снега. Я привезу туда… Да смотри мне внимательней!
— Ну что вы. Не бойтесь. Я там все мышиные норки знаю!
На том и постреляла в поле.
После утреннего стола завернула я в старую косынку горячей ещё картошки в генеральских мундирах да под ватник на грудь, потеплей чтоб было моей картошке; взяла горбушку хлеба, капусты квашеной в жестянку из-под кильки.
Поехала.
Еду, а у самой — иль я припала здоровьем? — а у самой голова что-то как кошёлка. Щёки к слезам горят.
И на душе какая-то тревожность…
Издалях я увидала, что Зина разворачивается на краю делянки. Будто кто свету мне в душу пустил!
Развернулась, поджидает меня в снеговой борозде.
Подъехала я.
— Ну что, — спрашиваю, — едун напал? Кормиться зараз будешь?
Кинула она руку вперёд.
— А давай на том конце.
И помчалась.
Я за ней.
Взяла рядком белую полоску. Гоню.
Глазастая моя Зинка — глазищи с ложку! — нет-нет да весело и поворотится, блеснёт в улыбке ловкими зубами да знай себе в лучшем виде пашет-всковыривает снега.
Я уже далеченько так отошла от края гона, как вдруг услыхала впереди сильный грохот, словно здоровенной лопатой скребанули по большому железу.
«Не беда ль какая?»
Только свела я глаза на Зинушкин трактор — от грохота охнула, дрогнула вся земля, и Зинушкин трактор ошмётьями брызнул на все стороны…
Когда я вернулась в себя, было уже ближе к обеду.
Подымаю голову с руля — «Универсал» мой у стога, как жеребец у коновязи, стоит.
До того места, где случился взрыв, не ближний свет…
«Выходит, ушло от меня сознание, упала я лицом на руль, и трактор сам собой шёл, покуда не упёрся в стог?..»
Пустилась я с криками бежать к Зинушке, вскидывая коленками высокий гиблый снег…
Не всплошь ли проклятый немчура засеял воронежское наше поле живыми снарядами.
На мине и подорвалась Зинушка моя.
Сама остановила своё время…
Ох и больно посчиталась с нами война.
Я не уберегла Зинушку. Валера уходил с Мишаткой да с Егоркой, а объявился увечным один одним.
Не вернула, не отдала нам война троих наших ребятушек.
Нет большака супротив хозяина.
Наконец-то беда добрала, извела последний свой тыща четыреста восемнадцатый чёрный день.
Наконец-то вышло замиренье…
Наконец-то стала оживать моя Острянка.
Пошли возвращаться к земле мужики, и бабы-девки, прокормившие войну, не без фанаберии уступали им свои машины.
Нина моя скоро выскочила замуж в Нижнедевицк. Вот уж воистину, дочка — чужое сокровище. Холь да корми, учи да стереги, да в люди отдай. И