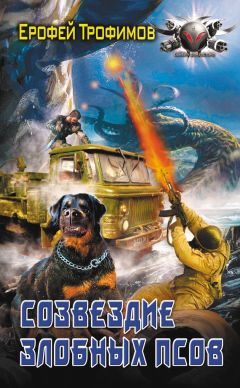накручивать ленту. К стене были прислонены охотничьи ружья. Нелидова рассказывала, что до сих пор помнит запах в кабачке, – пахло смолой от стен, винным паром и духами.
Артисты опьянели от причудливой этой экскурсии в горы и танцевали почище матерых дровосеков. Дровосеки были добродушные, тяжелые люди. Они страшно хлопали друг друга по спине и на пари били одной дробинкой белку.
В разгар пляски дедушка Павел поднял руки и закричал:
– Стой, я потерял свою трубку!
Танцы прекратились. Артисты бросились искать трубку. Операторы перестали накручивать ленту.
– Крутите, идиоты! – заорал режиссер и схватился за голову. – Прозевали чудесный момент! Крутите, ослы!
Во время поисков рука Нелидовой встретилась под дощатым столом с рукой Пиррисона. Пиррисон пожал ее пальцы. Юпитер зашипел и ударил им в глаза.
– Целуйтесь! – закричал режиссер, набрасывая на одно плечо упавшую подтяжку. – Целуйтесь, вам говорят! Так, прекрасно. Нашли трубку? Продолжайте танцы. Больше шуму, больше шуму, тогда будет веселей!
Он любил подбирать фразы как бы из детских песенок. Метался и кричал он по дурной привычке – шуму и веселья было достаточно.
Нелидова поняла, что Пиррисон поцеловал ее не для фильма. Снег, горы, гостиница, где камины топили еловыми щепками, – все это вскружило ей голову. Дальше все пошло как обычно. В двадцать третьем году они приехали в Россию.
Вышли к Серебрянке. На берегу шатрами стояли ели, был север. К вечеру зазеленело небо. Остановились, достали папиросы. У Наташи на бровях таяли снежинки, она смахнула их перчаткой. Прикуривая у Берга (рука его теперь почти не дрожала), она подняла глаза. Берг отшатнулся. Тьма зрачков, ресницы, мокрые от снега, как от слез, глядели на него «крупным планом».
– Да, правда, вы совсем здоровы, – сказала медленно Наташа.
– Вот психостеник, – Берг показал на Батурина. Батурин промолчал, оттолкнулся палками и быстро скатился с горы. Наташа скатилась за ним и упала. Берг снова увидел ее высокую ногу в светящемся изумительном чулке. Когда Батурин помогал ей подняться, она спросила:
– Расскажете сон? Расскажете? Я страшно любопытная.
– Эх, пропадаем, отец! – Берг восторженно ринулся с горы. Он свалился, потерял лыжи. Лыжи умчались вперед, подпрыгивая и обгоняя друг друга, явно издеваясь над ним. «Сволочи», – подумал Берг и побежал, проваливаясь и падая, вдогонку.
Обратно шли медленно. В синем, как бы фарфоровом небе, перебегали снежные звезды, скрипели лыжи.
– Ну, как ваш сон?
– Глупый сон, но раз вы пристаете, я расскажу.
Снилось ему вот что: сотни железнодорожных путей, отполированных поездами, кажется в Москве, но Москва – исполинская, дымная и сложная, как Лондон. Вагон электрической железной дороги – узкая, стремительная торпеда, отделанная красным деревом и серой замшей. Качающий ход вагона, почта полет, гром в туннелях, перестрелка в ущельях пакгаузов, нарастающий, как катастрофа, вопль колес. Разрыв снаряда – встречный поезд, и снова глухое гуденье полотна.
Рядом сидела женщина – теперь он знает, это она, Нелидова; его поразила печальная матовость ее лица. Когда вагон в сантиметре проносился на скрещениях от перерезавших его путь, таких же вихревых, стеклянных, поездов, она взглядывала на Батурина и смеялась. Около бетонной стены она высунула руку и коснулась ногтем струящегося в окне бетона, потом показала Батурину ноготь, – он был отполирован и из-под него сочилась кровь.
Поля ударили солнечным ветром. Зеленый свет каскадом пролетал по потолку вагона. Женщина подняла глаза на Батурина; зелень лесов, их тьма чернели и кружились в ее зрачках. Тогда он услышал ее голос, – она положила руку ему на плечо и спросила:
– Зачем вы поехали этим поездом?
Трудно сказать, что он услышал голос. Гром бандажей, скреплений и рельс достиг космической силы. Он, вернее, догадался по движению ее губ, сухих и очень ярких.
– Я жду крушенья.
– Почему?
– От скуки.
Мост прокричал сплошной звенящей нотой, – вода блеснула, свистнула, ушла, и с шумом ливня помчался лес.
– Когда вам захочется, чтобы вас простили, – сказала она, не глядя на Батурина, – найдите меня. Я прощу вам даже то, чему нет прощенья.
– Что?
– Скуку. Погоню за смертью. Даже вот этот палец ваш, – она взяла Батурина за мизинец, – не заслуживает смерти.
В конце вагона была небольшая эстрада. За ней – узкая дверь. Из двери вышел китаец в европейском костюме. Кожа сухая, не кожа – лайковая перчатка, и глаза под цвет спитого чая. Он присел на корточки, вынул из ящичка змею и запел песню, похожую на визг щенка.
Он похлопывал змею и пел, не подымая глаз. Морщины тысячелетней горечи лежали около его топкого рта. Он открыл рот, и змея заползла ему в горло. Он пел, слюна текла на подбородок, и глаза вылезали из орбит. Он пел все тише, это был уже плач – он звал змею. Когда она высунула голову, желтое лицо его посинело. Он схватил змеиную голову и изо всех сил начал тащить наружу.
– Довольно! – крикнул Батурин. Китаец выплюнул змею, она спряталась в ящичек. Китаец сидел и плакал.
Пришла немыслимая раньше человеческая жалость, внезапная, как ужас. Батурин бросился к китайцу, поднял его голову. Слезы текли по морщинам, зубы стучали. Тысячелетнее, нет, гораздо более древнее горе пластами душило сердце. Нищета, смерть детей, войны, этот страшный своей ненужностью оплеванный труд.
Батурин поднял его, усадил. Китаец гладил руками его рукава, прятал голову, на серых его брюках чернели пятна слез.
Подошла женщина и, не глядя на Батурина, повторила:
– Когда вам нужно будет, чтобы вас простили, – найдите меня.
Батурин взглянул на нее, – он ждал печальных глаз, стиснутых губ, – и вздрогнул. Она смеялась, подняла к глазам ладони, быстро провела ими, и на щеку Батурина брызнула теплая влага.
– Это роса, уже вечер! – крикнула она и бросилась к окну. Ветер рвал ее платье, ее слезы, ее смех. Поезд гудел, замедляя ход на гигантской насыпи по мощному и плавному закруглению, – впереди была великая безмолвная река. Батурин соскочил. Под ногой хрустели ракушки, солнце, как красный шмель, летело на вечерние сырые травы. Батурин хотел нарвать их, но поезд тронулся. Он вскочил на подножку, сорвался, красный фонарь последнего вагона пронесся у его головы. Прогремела квадратная труба моста. Батурин бросился бежать. У него было сознанье последней, непоправимой катастрофы. Он добежал до моста.
– Куда пошел этот поезд? – крикнул он красноармейцу на мосту.
– К чертовой матери, – ответил красноармеец. – Ты кто такой? Пойдем в комендатуру.
Батурин понял, что пропал, и проснулся. Уснул он в вагоне. Поезд стоял в Мытищах, и кондуктора` волокли к коменданту пьяного пассажира с гармошкой. Гармонист кричал: «К чертовой матери! Не можете доказать!»
Он прижимал гармошку к груди, и она издавала звук, похожий