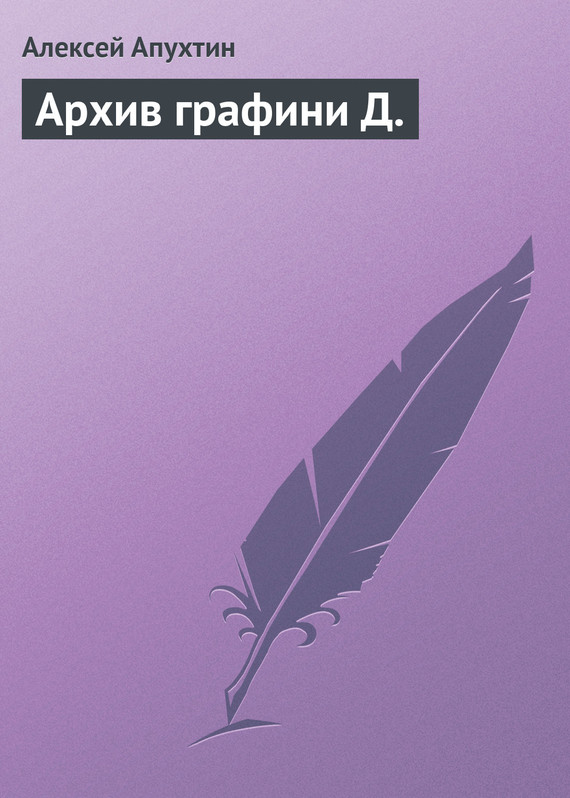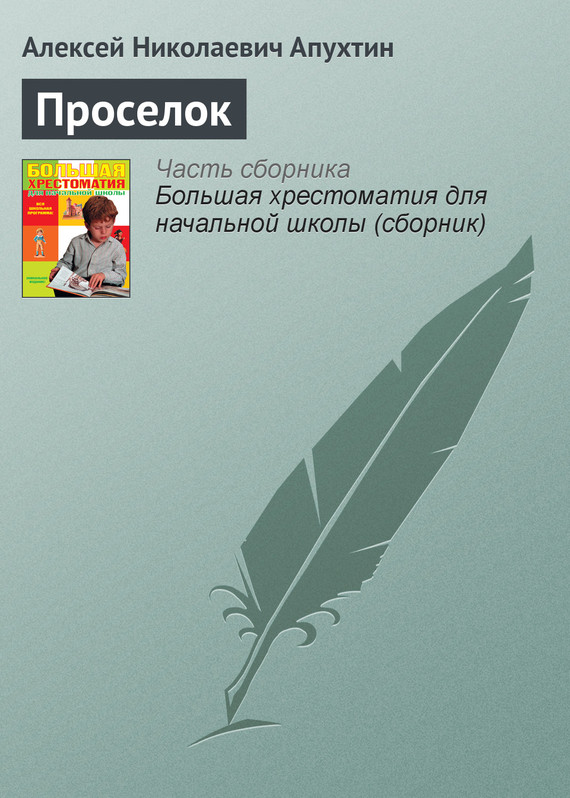Эти два года – самая интересная и самая позорная эпоха всего моего существования. Я жил полной жизнью, я не всего себя отдал Елене Павловне; обязанности мирового посредника занимали более половины моего времени, любовь была мне скорее отдыхом и развлечением, следовательно, я даже не имею оправдания в силе и могуществе увлечения. Зиму Оконцевы проводили в губернском городе; я нанял флигель во дворе того дома, который они занимали, и ездил к ним, пользуясь каждой свободной минутой. Не могу сказать, чтобы совесть моя оставалась все время спокойна. Иногда я без ужаса не мог смотреть на доброе, доверчивое лицо Алеши, но самое это сознание глубины моего преступления, вместе с постоянным страхом быть пойманным, придавало всему роману какую-то особенную, скверную прелесть.
В конце второй зимы Алеша простудился и заболел очень серьезно. Елена Павловна не отходила от его постели и с замечательным самоотвержением исполняла обязанности сиделки; но, когда Алеша стал выздоравливать, она не могла скрыть своей тяжелой, постоянно возраставшей тоски. Дело в том, что доктора потребовали, чтобы Алеша непременно уехал на год в теплый климат. Отправить его одного Елена Павловна не могла, а перенести разлуку со мной ей казалось невозможно. Напрасно я уверял ее, что приеду летом за границу, – она была неутешна. Наконец, в конце апреля Алеша был признан окрепшим для путешествия, и отъезд был назначен через два дня. В этот день я засиделся у Оконцевых очень поздно. Вечер был такой теплый, что дверь на балкон была отворена, и Алеша с наслаждением вдыхал в себя свежий весенний воздух. На этот раз Елена Павловна оживилась, весело болтала о предстоявшем путешествии, потом приготовила мужу лекарство и с улыбкой сказала мне, что пора и честь знать. Я был уже за дверью, когда Алеша опять позвал меня.
– Вот видишь, Павлик, – сказал он, крепко сжимая мою руку, – я хотел сказать тебе… Ты не можешь себе представить, как я счастлив тем, что могу ехать, но мне очень тяжело расстаться с тобой. Дай мне слово непременно приехать к нам летом.
Никакие горькие упреки Алеши не перевернули бы так мою душу, как эти простые дружеские слова. Какой-то камень всю ночь давил мне сердце, смутное предчувствие неизвестной и неизбежной беды не давало мне спать. Только к утру я забылся тяжелым, тревожным сном.
Я был разбужен известием, что Алеша умер. Доктора совсем потеряли голову при этом неожиданном исходе болезни; потом решили, что это произошло от острого рецидива, и успокоились. Главной виновницей рецидива была признана отворенная дверь балкона. На панихидах бывал весь город и все были поражены глубокой, доходившей до отчаяния скорбью Елены Павловны. Мне и в голову не приходило усомниться в ее искренности, потому что я сам буквально изнемогал под тяжестью стыда и горя. На похоронах она билась головой о стенки гроба и грохнулась в обмороке со ступеней катафалка. Я не знал, удобно ли мне ее посетить в этот день, но она вывела меня из затруднения, написав, что будет ждать меня в девять часов. Я застал ее бледной, но спокойной, в новом белом капоте с кружевами. Она встретила меня словами:
– Какое счастие, что все это, наконец, кончилось!
И с улыбкой протянула мне руку.
Я так был ошеломлен этими словами, и улыбкой, и костюмом, что не мог произнести ни слова. Мне казалось, что я стою в темном-темном месте и что какая-то бездна шевелится у меня под ногами. Вдруг яркий, зловещий свет осветил этот мрак и эту бездну. В мою отуманенную голову с необычайной ясностью ворвалась мысль, что Елена Павловна отравила Алешу. В ту самую минуту, как я это подумал, она произнесла французскую фразу, смысл которой заключался в том, что женщина, когда полюбит, то не остановится ни перед какой жертвой, а мужчины (я помню, что она сказала: «vous autres» [13]) даже не умеют оценить такую жертву…
Теперь, если бы Елену Павловну судили за убийство мужа и я бы был присяжным, я по совести не решился бы признать ее виновной. Но в тот ужасный день сказанная ею фраза так совпала с моей мыслью, что у меня не оставалось и тени сомнения. Я хотел броситься на нее и вынудить сознание, хотел бежать и потребовать, чтобы немедленно вырыли и вскрыли тело Алеши… Ничего этого я не сделал. Я совладал с собою, извинился головной болью и ушел, обещая Елене Павловне прийти к ней на следующее утро. Кажется, я даже поцеловал ее в лоб на прощанье. На следующее утро я с рассветом ускакал в Васильевну, наскоро сдал дела и уехал за границу. Четыре года я слонялся по Европе, переезжая с места на место и нигде не находя покоя. Мысль, что я хотя косвенный, но настоящий убийца Алеши, преследовала меня всюду. Елена Павловна пробовала мне писать, сначала умоляя меня вернуться, а потом осыпая меня упреками, – я не отвечал ей. Я думаю, что если бы она где-нибудь неожиданно явилась передо мною со своей загадочной улыбкой, я бы опять бросился к ее ногам и поверил бы каждому ее слову; но письма ее были желчны и черствы, – и только укрепляли мои подозрения. Об этих подозрениях она не упомянула ни разу; может быть, она ничего не знает до сих пор…
Наконец, время взяло свое. Я вернулся в Россию, поселился в Петербурге, поступил вновь на службу, записался в клуб и начал ту праздную светскую жизнь, при которой день проходит за днем, не принося с собой ни радости, ни горя, убаюкивая разум и совесть однообразным шумом и по временам волнуя сердце самой мелкой борьбой самых крохотных самолюбий. В Васильевку я ездил только раз, когда получил известие о тяжкой болезни матушки. Елену Павловну я там не застал. Мне сказали, что года через два после смерти Алеши она вступила в новый брак с каким-то польским графом, вскоре овдовела снова и жила в своих новых польских поместьях. Потом, в течение пятнадцати лет, я не имел о ней никаких известий. В начале прошлой зимы я сидел на утреннем приеме у княгини Козельской и уже собирался уезжать, когда возвестили графиню Завольскую.
– Это моя старая московская приятельница, – пояснила нам хозяйка дома. – Мы вместе выезжали, elle etait bien belle alors [14]. Теперь она приехала сюда, чтобы вывозить дочерей.
Вошла дама в черном платье, с желтым лицом и потухшими глазами, без всяких признаков красоты. За ней шли две очень изящно одетые барышни.
– Chere Helene, quel bonheur de vous voir enfin [15],– произнесла княгиня, шумно поднимаясь своим грузным телом