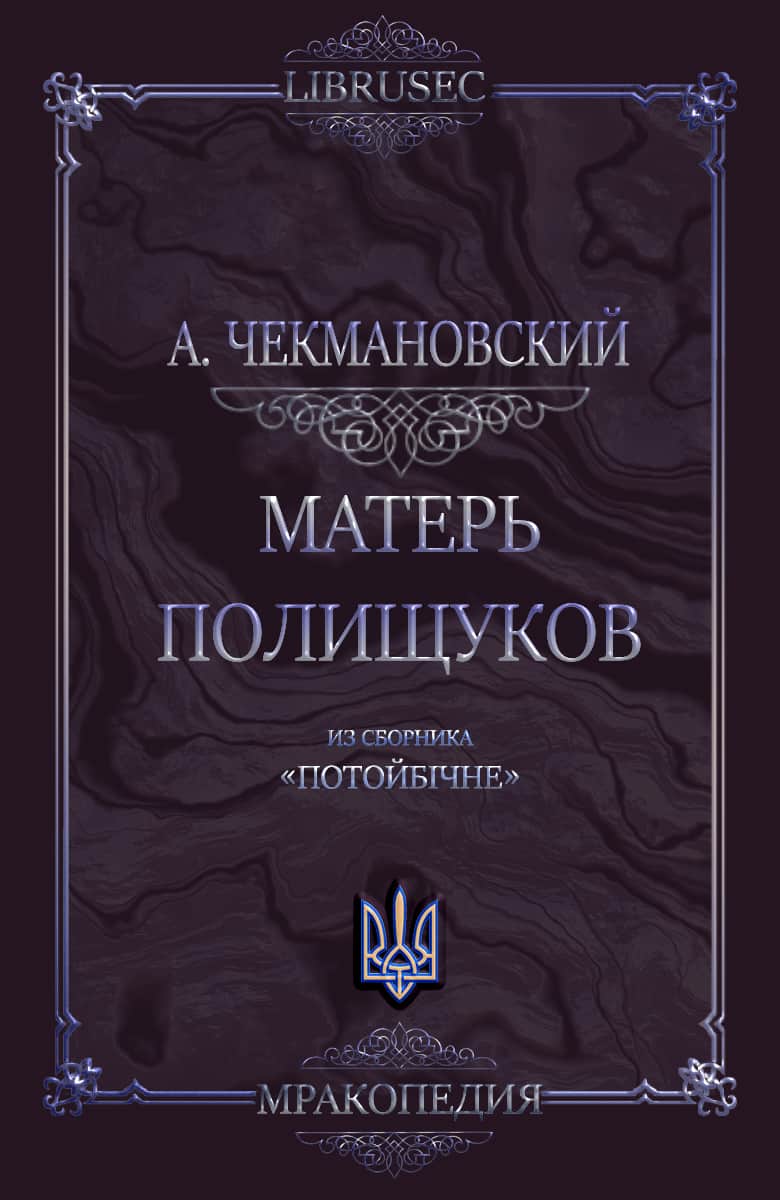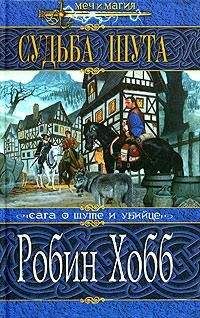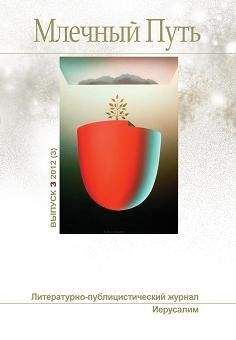быстро, словно отрубая слова:
— Это никакое не чудо, не диво. Людей нужно учить, сдерживать их от греха. А школа есть? Нет… А наука? Нет… Кто же спасет от пьянства и мужского произвола? Никто… Кто удержит их от греха, как не поучения стариков?
— Но та была молодая… А эта старая… Рассыпается…
— Ну и что? Наши бабы знают такие травы, от которых и старое молодеет.
— Но почему я ослеп? Почему видел молодую?.. — не соглашался попович.
— Глаза заморочит… Бывает такое на свете, что и ученые не разгадают. Но людей в вере она держит. Чего еще нужно? Ибо когда распустится наша полещукская земля, сопьется, темная и неученая, когда обнищавшая и каждый день голодная пристанет она ко греху и будет жить им — какая тогда польза от нее?!
— Польза? Для кого польза? — переспросил попович.
— А и правда, для кого?.. — некоторое время молчал, а потом словно отрубил: — Для Родины…
И тут только начал Самийло всматриваться в этого низенького, плюгавенького полещука, который с видом удельного князя из какого-то древлянского княжества стоял рядом с ним и смотрел на поповича будто бы сверху вниз. Он был, тот полещук, высокий-высокий. И почему-то отступил перед ним Самийло на шаг.
— Не из тех ли ты, что во времена Ольги людей разрывали на деревьях?
Короткие усы полещука спадали по-козацки чуть ниже насмешливых губ, глаза смотрели с каким-то безучастным извинением.
И почему-то поповский сын Самийло Сибиковский почувствовал себя неожиданно и удивительно малым мальчиком. Так, как в детстве, когда его, ребенка еще, выводили к гостям и говорили:
— Ну, поклонись, сынок, хорошенько… Приветствуй… приветствуй… Стукни каблуками…
И попович Самийло, путаясь ногами в придорожном песке, стукнул каблуками и поклонился по-мальчишески. Но полещук того уже не заметил. Смотрел над головой поповича.
— За какое-то черное слово — простите, паныч… Просим… просим… Мы здесь не приучены к панским церемониям, но зла не сделаем…
Подступала толпа. Начали прощаться. Крестьяне и бабы сжимали парню руку, благодарили за «угощение» и просили заходить еще когда-нибудь. Самийло чувствовал себя от этих рукопожатий и благодарностей как-то глупо, как школьник, в чем-то провинившийся и не знающий, что ему будет в школе. Одновременно было почему-то стыдно и робко.
Внешне сохраняя вид самонадеянного поповича, он обещал, что еще придет, что еще когда-нибудь погуляем. Был очень рад, когда остались уже одни, пошли по дороге и, когда Пархом начал говорить, будто ни к кому не обращаясь:
— Баба полещуцкая — это баба хорошая. Послушная, трудолюбивая, неразговорчивая. Но чародейка. Варит варево, месит месиво, толчет в ступе всякое и из старухи делает молодуху. Может, холера! Может!.. По крайней мере, на время. Но чтобы из старика сделала молодого, то об этом не слышал. Нет, да и все тут… А может быть, они и умеют, но не хотят. Чтобы, значит, старика еще больше очаровать. О-о-о! Эти бабы-ы-ы…
Помолчав некоторое время, снова начал:
— По-моему, нет волшебства… Есть только морок, который бабы напускают на всяких, а больше всего на мужчин. А они верят! А они думают, волшебство… Нет волшебства, иначе почему, я вас спрашиваю, паныч, они меня не сделали молодым? Давал десятку, и никакая баба не соглашается. Потому что я им так говорю: дать десятку-то дам, но и в морду дам, если ты меня не сделаешь молодым… Врежу так, что глаза на затылок полезут… Не хотят… Ни одна…
То, что попович шел молча, не обращая внимания на рассуждения Пархома, не озадачило полещука. Начал жаловаться, но тоном каким-то безразличным и полушутя. Вот он охотник, а потерял все имущество. Нет патронташа, ружье неизвестно где делось, патроны черт знает кто выстрелял… А ружье? Не ружье, а голубенок… Дед и прадед из него целились, стреляли и попадали. Курок нужно было перед каждым выстрелом наставлять, пистон пальцем поддерживать, но целила хорошо. О-о-о-о… Она от деда, николаевского солдата, который под Севастополем воевал… Вот какая она была… А забрал ее сукин сын еврей. Жид Пониманский! Где это видано? Где это слыхано?!..
И теперь Пархом без ружья это уже не человек. А так. Простой мужик. Ведь если он не охотник, кто он такой — Пархом? А? Я вас спрашиваю, паныч?! Пархом в охоте еще как разбирается… Дай Бог, чтобы ваши детишки были такие, как Пархом, охотники… Пархом знает все: как и что и когда стрелять, в каком месяце года, из какого прицела, с какой молитвой.
Паны, которые приезжают на Полесье, говорят, что полесскую дичь стережет святой Гумберт… Хм… Пятьдесят семь лет прожил, о всяких святых слыхал, а такого еще не было… Такой святой должен якобы стеречь полесскую дичь… Еще чего… Наш святой Варсонофий — вот святой… он стережет… На своей земле… Да… Уток, курочек, лысух, нырков и другую птицу стережет святой Варсонофий, который полещуку позволяет бить и весной… Вот… Ну, как известно, другую птицу, например, чайку или дрофу, чем позже бить, тем лучше, но как же ты выдержишь до осени? Нет времени ждать, чтобы она сала нагуляла. Да… Если бы мне ружье мое, ружьишко, показал бы я им… Одной дробью — штук тридцать… А моя мельничка выпотрошит и испечет на сале… Ой, ой… Это тебе не вьюн какой-нибудь…
Шел позади Сибиковского, размахивая руками и болтая сам с собой.
Начинало теплеть. На небе плыли редкие, продолговатые, как спущенные паруса, облака, кое-где бело-желтые, как весенний поздний снег, их легкие и пушистые края не то рвались, не то ломались и таяли в синей глубине.
Артем, оставшись один у околицы, смотрел вслед двум силуэтам, исчезавшим под небосклоном, и казались они ему какими-то чудаками. И тот высокий, длинный паныч, поповский сынок, и тот второй, низкий, патлатый охотник, оба они ищут чего-то, а сами не знают чего.
Матерь полищуков… Матерь полищуков… А главное и забыл… Надвинул равнодушной рукой баранью шапку на глаза, крутнулся на месте и мелким полещуцким шагом пошел в село.
©Антон Чекмановский, 1939.