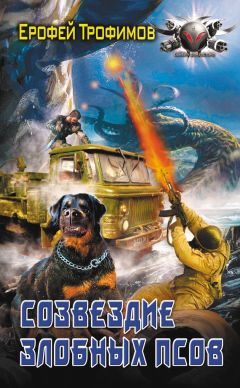конечный пункт.
– Ни черта вы не понимаете, – рассердился Глан, – моя профессия – попутчик. Вы, очевидно, думаете, что земля не шарообразная, а плоская и Коперник дурак. Мы живем на шаре. Какой к черту конечный пункт, когда у шара вообще нет концов. Я всегда двигаюсь вперед. Поняли? Знаете совет Джека Лондона: «Что бы ни случилось, держите на запад». Что бы ни случилось, я всегда покрываю пространства.
В ночь на седьмой день шторма Батурин проснулся от торопливого стука в стену. Стучала Нелидова.
– Это вы? Что случилось?
Нелидова ответила, но он не расслышал: сотрясая палубу, гневно заревел гудок, ему ответили гудки с других пароходов. Ночь стонала от их тревожного и протяжного крика. Батурин повернул выключатель, – электричество не горело. Он быстро оделся, накинул пальто и поднялся в верхнюю рубку. За ним поднялась Нелидова. В темной и холодной рубке курил у окна, отогнув занавеску, старик агент.
– Что случилось?
– «Рылеева» сорвало с якорей, – ответил агент спокойно, – несет на скалы. Конечно, он не выгребет: у него машины дрянные. Сядет. Спасти его невозможно.
– Почему же гудят?
– Так, больше, чтобы тем, рылеевцам, было легче. Может быть, и спасутся…
Нелидова стала на колени на диван и прижалась к окну. В черном гуле и реве, в выкриках пароходов надвигалась неизбежная гибель. Нелидова вскрикнула.
– Смотрите – огонь!
Во тьме был виден бьющийся под ветром столб тусклого пламени.
– Это из трубы, – сказал агент. – «Рылеев» работает машинами при последнем издыхании.
Долетел спокойный мужественный гудок, – океанский, в три тона. Он гудел с короткими перерывами, потом стих. Как по команде, стихли все пароходы. Глухая ночь и гром прибоя вошли в каюту и создали неожиданное впечатление глубокой тишины.
– Слава богу, спасся, – сказал агент. – Пароходы, вы знаете, гудками разговаривают. Это «Трансбалт» прогудел, что все благополучно.
Наутро узнали, что «Рылеева» проносило под самым бортом «Трансбалта». С «Трансбалта» успели подать буксиры. «Рылеев» принял их, отшвартовался у борта «Трансбалта» и, неистово работая машинами, спокойно отстаивается. В бинокль было видно, как он жался к «Трансбалту», будто детеныш к матерому киту. Оба согласно качались и густо дымили.
Нелидова отвернулась от окна и спросила Батурина:
– Скажите правду, вы и сейчас думаете так, как там… в Керчи?
Батурин молчал.
– Что ж вы молчите? Не бойтесь, я не испугаюсь.
Батурин закурил. Она взглянула на него при свете спички. Он застенчиво улыбался.
– Я так и знала, – сказала она шепотом, чтобы не услышал старик агент. – Вы не могли решить иначе. Вы шли к смерти, как одержимый. Было страшно на вас смотреть. А теперь, правда, все прошло.
– Шторм проветривает голову. Убивать я не буду. Но обезвредить его надо.
– Я говорю не о нем, – значительно и медленно ответила Нелидова. – Я говорю о вас. Пиррисон для меня не существует. Слышите!
Агент чиркнул спичкой. Нелидова быстро отвернулась, встала и пошла в каюту. Батурин долго еще сидел вместе с агентом, курил и молчал. У агента была старческая бессонница. Часов в пять утра из темноты каюты Батурин услышал пение. Пел Глан.
пел он вполголоса, —
Пылают крылья,
В огне заката крылья-паруса…
– Беззаботный человек, – вздохнул агент. – Вот кому легко жить.
Вечером, сидя в темной кают-компании, Глан завел странный разговор.
– У меня дурацкая память. Я помню преимущественно ночи. Дни, свет – это быстро забывается, а вот ночи я помню прекрасно. Поэтому жизнь кажется мне полной огней. Ночь всегда празднична. Ночью люди говорят то, чего никогда не скажут днем (Нелидова быстро взглянула на Батурина). Вы заметили, что ночью голоса у людей, особенно у женщин, меняются? Утром после ночных разговоров люди стыдятся смотреть друг другу в глаза. Люди вообще стыдятся хороших вещей, например человечности, любви, своих слез, тоски, – всего, что не носит серого цвета.
– По ночам легко писать, – подтвердил Берг.
– Принято думать, – продолжал Глан, – что ночь черная. Это чепуха! Ночь имеет больше красок, чем день. Например, ленинградские ночи. Сам Гейне бродит по улицам со шляпой в руке, честное слово. Листва сереет. Весь город залит не светом, а тусклой водой. Солнце поднимается такое холодное, что даже гранит кажется теплым. Эх, ничего вы не знаете!
Нелидова слушала, затаив дыханье: таких странных людей она встречала впервые.
«Только в России могут быть такие люди», – думала она, разглядывая неясный профиль Глана.
Папироса освещала его обезьянье лицо. Берг лежал на диване и изредка вставлял насмешливые слова.
«Чудесная страна и поразительное время», – думала Нелидова. – Вот этот Глан – романтик, поклонник Гюго и чечетки, бездомный и любящий свою бездомность человек – когда-то дрался с японцами на Дальнем Востоке. Он был ранен, вылечил рану какими-то сухими ноздреватыми грибами и три недели питался в тайге сырым беличьим мясом. Батурин был в плену у Махно, спина у него рассечена шомполом, он был вожатым трамвая в Москве, может быть возил ее, Нелидову, и она даже не взглянула на него. Он знал труд; труд сделал его суровым и проницательным, – так казалось Нелидовой.
Берг воспитался у поэта Бялика, два года прожил в Палестине (был сионистом), арабы убили его брата. Потом Берг возненавидел сионизм и говорил, что всем – жизнью своей, резко переломившейся и сделавшей из него писателя, тем, что он понял цену себе, всем лучшим он обязан Ленину.
– А Ленин этого даже не знал, – смеялся Батурин.
– Никто не задумывался над тем, – отвечал Берг, – как громадно было влияние этого человека на личную жизнь каждого из нас. Об этом стоит подумать.
Больше всего поражало Нелидову то, что невозможно было точно определить профессию этих людей. Да вряд ли и сами они могли ее определить.
Глан говорил: «Я – попутчик». Батурин называл себя «ничем». Один Берг был писателем, но писал он мало, и в писательство его вклинивались целые полосы совсем иных занятий. В плохие времена он даже играл на рынке в шашки и зарабатывал этим до рубля в день.
Главное, что притягивало Нелидову к ним, – это неисчерпаемый запас жизненных сил. Они спорили о множестве вещей, ненавидели, любили, дурачились. Около них она ощущала тугой бег жизни, застрахованной от старости и апатии вечным их беспокойством, светлыми головами.
«А сколько бродит по земле мертвецов», – думала она, перебирая прошлое, чопорный свой дом, мать, говорившую с детьми по-французски, матовый холод паркета, страх перед тем, чтобы не выйти из рамок общепринятых норм.
Утром Нелидова проснулась от непривычного чувства тишины и засмеялась: синий и глубокий штиль качался